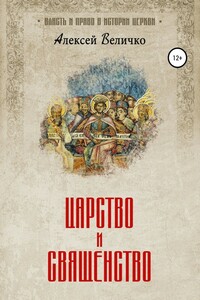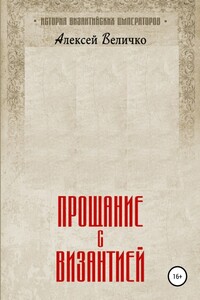История византийских императоров. От Юстина до Феодосия III | страница 19
Теоретически, как справедливо заметил один автор, в таких случаях всё должна была решать церковная рецепция, то есть свободное усвоение и принятие этих догматов православным обществом. Но на практике очень многое решала личная санкция императоров и их позиция[43]. И это обстоятельство предопределяло место царя в церковной иерархии и его церковные полномочия, растущие и ширящиеся по объёму из века в век. «Широкие права императора в делах Церкви, — отмечал Ю.А. Кулаковский (1855–1919), — не подлежали никакому сомнению ещё со времени св. Константина. Церковь живёт в государстве, и тем самым глава государства является главой Церкви»[44].
В свою очередь, обязанность защищать Церковь немыслима без признания за царём высших административно-правительственных полномочий по управлению Церковью. А также права царя или, скорее, обязанности вторгаться в сакральные вопросы, то есть в самое вероучение. Действительно, как можно законом гарантировать сохранение истинной веры, если формирование догматов неподвластно императору? И уже император св. Гонорий в письме императору Аркадию прямо пишет, что «попечение государево простирается на таинственные и кафолические вопросы»[45].
Эти естественные выводы очень рано укоренились в сознании как самих христиан, так и уже первых христианских императоров. Ещё в деяниях св. Константина Великого можно найти следы двойственности его статуса, некоторую нерешительность царя в реализации тех полномочий, которые сформулированы выше. Его крайне занимал вопрос формального единства Кафолической Церкви, но он старается уклониться от содержания богословских диспутов. Однако некоторое время спустя царь начинает охотно вступать в богословские дебаты и, уже не смущаясь, утверждает, что исследует истину наравне с епископами.
Сама жизнь неизменно требовала от императоров тех действий, которые могли бы умиротворить Кафолическую Церковь, обеспечить её внешнее единство и единство вероисповедальное. Император Констанций и его братья вынуждены были ставить последнее слово во многих богословских спорах и при разрешении канонических прецедентов, иначе никакое нормальное существование церковных общин оказывалось невозможным. Императоры Валентиниан и Валент старались не вмешиваться во внутрицерковную жизнь, но это было возможно только на Западе, слабо подверженном арианству. Но на Востоке дистанцированность Валента привела только к новым затяжным расколам, гонениям на православных со стороны арианствующих епископов и, в итоге, к обвинению царя в поддержке, которую он якобы оказывал еретикам.