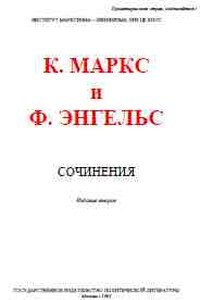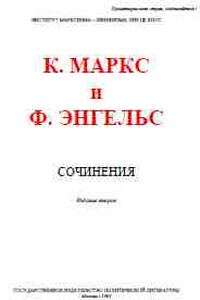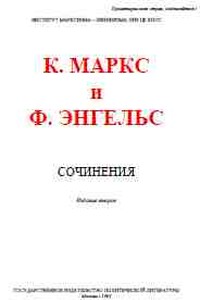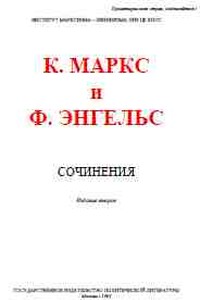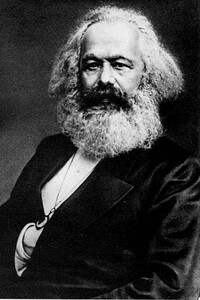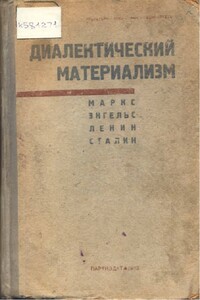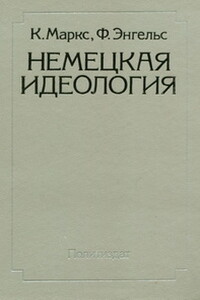Собрание сочинений, том 26, ч.1 | страница 148
* * *
[313] Итак, второй (или, вернее, переплетающийся с вышеизложенным другим его взглядом) взгляд Смита на «производительный» и «непроизводительный труд» сводится к тому, что производительным является труд, производящий товар, а непроизводительным — труд, не производящий «никакого товара». Смит не отрицает того, что и тот и другой род труда является товаром. См. выше>{17}: «Труд последних имеет свою стоимость и заслуживает вознаграждения так же, как и труд первых» (а именно, экономически. О моральной и т. п. точке зрения нет речи ни по отношению к одному, ни по отношению к другому роду труда). А понятие товара включает в себя, что труд воплощается, материализуется, овеществляется в своем продукте. Сам труд в его непосредственном бытии, в его живом существовании не может рассматриваться непосредственно как товар, — в качестве товара может рассматриваться только рабочая сила, временное проявление которой есть сам труд. Только такой взгляд выясняет нам как понятие наемного труда в собственном смысле, так и понятие «непроизводительного труда», который А. Смит всюду определяет издержками производства, необходимыми для производства «непроизводительного работника». Таким образом, товар должен рассматриваться как нечто такое, что обладает отличным от самого труда существованием. Но тогда мир товаров распадается на две большие категории:
На одной стороне — рабочие силы.
На другой стороне — самые товары.
Однако материализацию и т. д. труда не следует понимать так по-шотландски, как ее понимает А. Смит. Если мы говорим о товаре как о материализованном выражении труда — в смысле меновой стоимости товара, — то речь идет только о воображаемом, т. е. исключительно социальном способе существования товара, не имеющем ничего общего с его телесной реальностью; товар представляется как определенное количество общественного труда или денег. Возможно, что конкретный труд, результатом которого он является, не оставляет на нем никакого следа. В мануфактурном товаре этот след сохраняется в такой форме, которая остается внешней для сырья. В земледелии же и т. д., — хотя форма, которую получил товар, например пшеница, бык и т. д., также является продуктом человеческого труда, и притом труда, наследуемого и дополняемого от поколения к поколению, — этого на продукте не видно. Есть и такая сфера промышленного труда, где целью труда является вовсе не изменение формы вещи, а только изменение ее пространственного положения. Например, если товар доставляется из Китая в Англию и т. д., то на самой вещи никто не заметит никаких следов труда, затраченного на перевозку (разве только кто-нибудь вспомнит, что данная вещь — не английского происхождения). Стало быть, вышеуказанным образом понимать материализацию труда в товаре нельзя. (Здесь вводит в заблуждение то обстоятельство, что общественное отношение выступает в форме вещи.)