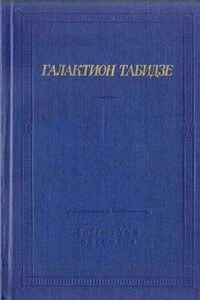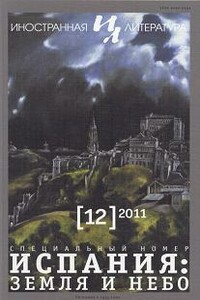Стихотворения и поэмы | страница 33
В нашей поэзии (не только украинской) он — один из крупнейших мастеров, принесших с собой вкус к предметности, к образу Вещи и Плоти, увиденной не только традиционно возвышенным взором художника, но и осведомленным глазом ученого или инженера, вдумчивого специалиста или организатора.
Но речь идет не просто о любви к густому, плотному, пластичному материальному образу (тем более что он для автора не самоцель, в нем всегда — крепкий сок мысли, идеи). М. Бажану, видимо, более всего по душе материя организованная, преображенная или преображаемая разумными, творческими усилиями человека. Отсюда особое влечение к зодчеству и скульптуре, общее архитектурное обличив, выстроенность и монументальность его поэзии, порой переходящие (и не только в молодые годы) в барочное изобилие напряженных, сложных образов. В критике справедливо отмечалось, что зодчество, отвечая индивидуально-психологическим склонностям поэта, близко ему и тем еще, что в нем особенно зримо опредмечиваются творческая сила, разум и воля человека — первостепенные для М. Бажана ценности не только в общей, философской, но и в интимнейшей эстетической плоскости.
Правда, все это относится, главным образом, к характеристике ранних этапов творчества поэта. В дальнейшем «вещная», «пластическая» доминанта не исчезает, но заметно смягчается, гармонизируется с другими составляющими его поэтики. Бывали даже моменты (к счастью, действительно отдельные), когда поэзия М. Бажана немало теряла в своей стилевой определенности, становясь слишком «общей» и потому вялой и холодноватой при всей свойственной ей патетике.
Художественное мышление поэта в 50–80-е годы уже трудно связывать только со скульптурой, архитектурой, живописью, с «массами, объемами, гранями», с монументальностью и картинностью. Во многих стихах из своих послевоенных книг он усиленно развивает, например, музыкальное начало, которое намечалось уже в некоторых образцах его ранней лирики («Элегия аттракционов», «Фокстрот»), — с тем, однако, существенным отличием, что музыка диссонансов, резких изломов сменяется тут устремленностью к гармонии, нелегко, разумеется, достигаемой: «драматичный» М. Бажан явно или потаенно всегда таким и оставался.
В стихах о Мицкевиче, стихах итальянских, «уманских», не говоря уже о «Ночных концертах» и прощальной, «осенней» лирике, музыкальный элемент часто выступает на первый план в качестве и тематического мотива, и самого способа его передачи. Вместе с тем надо видеть и его своеобразие. Всматриваясь в музыкальность М. Бажана, можно убедиться, что она по преимуществу имеет тот же картинно-изобразительный характер, что и его, скажем, скульптурность (яркие примеры — музыкальный образ Восьмого полка в «Богах Эллады», передача народной музыки и танца в «Бразилиане Вила Лобоса»), и в этом смысле существенно отличается от той интуитивной, полной внутренней выразительной силы музыкальности, которая свойственна, скажем, поэзии А. Блока или «Солнечным кларнетам» П. Тычины.