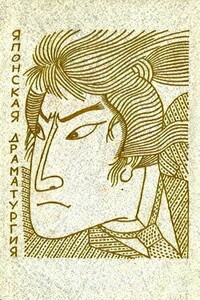Зримое время | страница 14
Полная тишина подозрительна, неучастие опасно. Вступив на стезю благонамеренности, необходимо выказать последнюю новой и обширной деятельностью — эту диспозицию втолковывает приятелю Глумов, предлагая пригласить в квартиру третье лицо, уже, кстати, интересовавшееся у дворника: — «Скоро ли в 4-м нумере руволюция будет?» (И здесь Щедрин не отступает от прозаической реальности своего времени. Подозрительность правительства все более распространялась, захватывая надзором, или, по щедринской терминологии, «статистикой», не только те слои общества, которые, хотя и молчаливо, но в достаточной степени последовательно сочувствовали нарастающему народническому движению, но и те, что испуганно жались, отстраняясь от всяких «контактов».)
— А может быть, не надо? — с робкой надеждой спрашивает недавний либерал.
— Надо! — твердо отвечает Глумов. Годить так годить. Пусть все будет открыто в их жизни, сиречь в их квартире. Пусть «наблюдение наружное» «сольется, так сказать, с наблюдением внутренним». И третье лицо (Валентин Никулин) тут как тут. Уже за ломберным столом.
Он невесом как па мазурки, которую непрерывно мурлычет; он именно то самое «невесомое», что поселилось в их душах, как только они начали оглядываться по углам. Движения его округлы, польская речь батистово ласкает слух. Он введен в действие как неизбежность. Они уже при нем, он тут хозяин. Этюд «игра в карты с Кшепшицюльским» сменяется этюдом «явление Ивана Тимофеевича». Начинается парад фантомов.
— Иван Тимофеевич обещал зайти самолично! — стоило Кшепшицюльскому произнести это, как поворотилось кресло, а на нем в мундире и жандармской каске восседал сам глава квартала. Этот сценический трюк был настолько подготовлен всем предыдущим, что не вызвал особого удивления. Подготовлен в том смысле, что «квартал» или лучше скажем так — «КВАРТАЛ», был поселен здесь уже ранее, еще до появления третьего лица. Они впустили его к себе в души, и он разлился в окружающем эфире в такой степени, что достаточно было легкого сгущения атмосферы, чтобы появился Иван Тимофеевич. «Самолично!», — подтвердил он, возникнув.
Иван Тимофеевич — это, знаете ли, целая поэма, Это законченная система. Вот здесь Иван Тимофеевич начинается, а вот тут он заканчивается. У него даже ритм речи рождает ощущение этакой первородной включенности в пирамиду иерархической благопристойности. Сомнений быть не может: перед нами ПОРЯДОК, перед нами СТОЛП.
Приглядитесь к Ивану Тимофеевичу, прислушайтесь к нему. Из него что-то вещает, точно бы без его участия, благородно, бархатно звучит его голос, порой в нем потрескивают громовые разряды начальственного недовольства, некое утробное «Diеs iгае» — гнев господен.