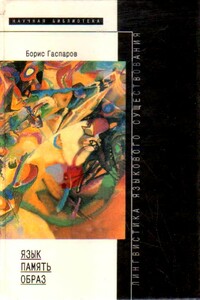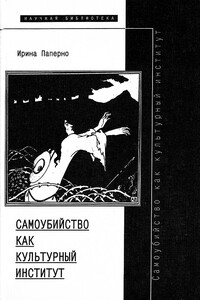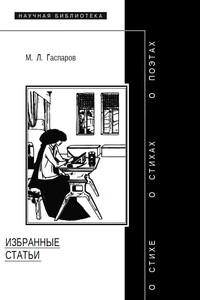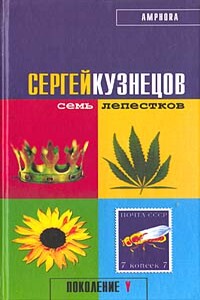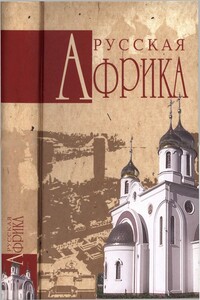Веселые человечки: культурные герои советского детства | страница 40
Самыми известными, благодаря их позднейшему пересказу у других авторов детской ленинианы, стали три истории о маленьком Ильиче: о том, 1) как маленький Володя, незаметно от матери, готовившей яблочный пирог, съел яблочные очистки, а пристыженный ею, «расплакался и сказал, что больше так делать не будет» («- И действительно, — говорила мать, — он больше ничего не брал тайком»); о том, 2) как он разбил графин и, испугавшись сказать правду сразу, потом все-таки нашел в себе силы сознаться в своем проступке; 3) как он потешался над своим меньшим братцем Митей, пугая его страшной песенкой про «Козлика» («Напали на козлика серые волки…»).
Книжка Ульяновой (во всяком случае — ее пятое издание, вышедшее в 1931 году совместно в ОГИЗе и «Молодой гвардии») была проиллюстрирована знаменитыми впоследствии фотографиями Володи-ребенка, семьи Ульяновых и Володи-гимназиста, причем первая из них (помещенная поверх красного фона обложки) была уже характерно отретуширована: попреки оригиналу, изображавшему четырехлетнего Володю вместе с его младшей сестрой Олей, на фотографии остался он один — ангелоподобный ребенок с высоким лбом и вьющимися кудрями [121]. История с яблочными очистками, разбитым графином и особенно с поддразниванием младшего брата удачно очеловечивала ангельский облик будущего вождя революции и представляла его, по выражению того же Маяковского, «обыкновенным мальчиком» [122]. Занимавший мемуаристов и, несомненно, интересовавший читателей 1920-х годов образ Ленина-человека [123] обретал в данном случае вполне «этиологическое» звучание — в характере маленького Володи читатели могли прозревать не только будущую биографию Ленина, но и будущую историю России. События детской жизни Ильича в ретроспективе российской истории объясняли последнюю не в трансцендентальном, но антропологическом и потому общепонятном ключе — как историю того, кто ее совершил. Такая история представала историей ленинских поступков, а не только происшествий, историей личности, а не только неведомых исторических законов. Можно сказать, что в определенном смысле детская лениниана противостояла доктринальной марксистской историософии, настаивавшей на необратимости исторического процесса, так как делала саму историю доступной для увлекательного рассказа (в соответствии с англоязычным каламбуром, связывающим history и story) о живых людях и их поступках, или, выражаясь языком старинной историографии, о героях и их деяниях