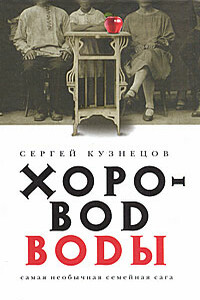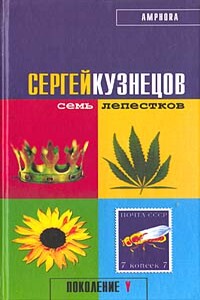Веселые человечки: культурные герои советского детства | страница 31
Постоянно тиражируемые в рассказах, стихах-страшилках, песнях, мульт- и кино- фильмах сходные образы и темы смерти, боли, насилия не столько проясняли суть происходящего, сколько лишали его эффекта неожиданности [84]. Предлагая доступные символические рамки и сценарии, снимая эффект внезапности, тексты подобного рода приучали к возможности беспричинного ухода или отсутствия [85]. Бесконечные семантические и структурные повторы были наиболее популярными средствами подобной поэтики преодоления внезапности. Известная песня про кузнечика из мультфильма «Приключения Незнайки и его друзей» (реж. Леонид Аристов, 1973), например, строилась именно по такому принципу бесконечного повторения призыва представить то, что представить невозможно [86].
Как известно, кузнечик, «не трогал и козявку», но подобное поведение не спасло его от страшной участи. Мораль воспитания, однако, в песне сводилась не к тщетности миролюбия, а к неожиданности исхода:
(«В траве сидел кузнечик», Н. Носов)
Показательно, что эта тема неожиданного «вдруг», резко меняющего привычный ход движения, была одним из самых популярных приемов в песнях для детей — от мультфильма про Кота Леопольда («Если вдруг грянет гром…», сл. А. Хайта) и сказки про Красную Шапочку («А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане?», сл. Ю. Кима) до песен про дружбу («Друг всегда меня сможет выручить, / Если что-нибудь приключится вдруг…», сл. М. Пляцковского). Следствием неожиданности смены положения нередко становилась явная или чуть прикрытая абсурдность подобных текстов: невозможно объяснить ни внезапность «такого вот конца», ни причину резкого «вдруг» [87]. Зато их можно было представить и — если получится — описать.
Фантазии радикальных перемен выполняли не только функцию своеобразной символической «вакцинации против страха». Упрощенность содержания (три цвета вместо тридцати трех, о которых говорила Барто) облегчала возможность символической манипуляции «неживыми объектами» и трудными ситуациями. Предсказуемость формы, в свою очередь, делала доступной процесс символического присвоения разнообразных сценариев [88]. Большая популярность «садистских стишков» («Девочка в поле нашла пулемет — / Больше в деревне никто не живет») и «страшных» историй («В черном-черном лесу стоит черный-черный дом…») — независимо от того, являются они авторскими произведениями или примерами современного детского фольклора, — имела, судя по всему, в своей основе сходные причины.