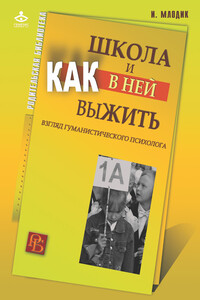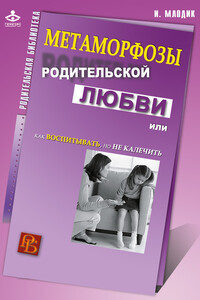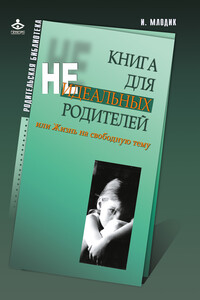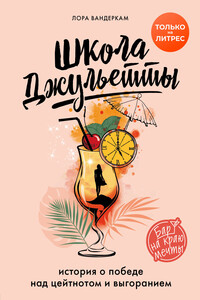Разговоры в песочнице, или Истории из жизни мам | страница 50
— Ну, у меня все слегка не так, — Юлька, наконец, взяла слово, огляделась и, убедившись в абсолютном внимании слушателей, продолжила. Как часто бывало, говорила она о чем-то своем, лишь косвенно касаясь темы нашей беседы. — Свобода — это, конечно, хорошо. Но лично мне удобнее жить по режиму, чтобы заранее знать, когда появится возможность поработать, выйти в магазин или позвать гостей. Ну и потом надо же Катерину забирать из школы, водить на занятия. Плюс–минус пятнадцать минут, конечно, не критичны, но стараюсь Лерку все-таки сильно не расслаблять: еда, сон, купание — все примерно в одно и то же время. Он уже, кстати, вполне привык. А насчет ползать везде… Вот с Катериной проще было. У нее не было старшей сестры с кучей мелких прибамбасов. Я Лерке купила манеж. Теперь его хоть иногда можно нейтрализовать, например, пока Катерина не уберется. Разрешать все тоже не в моем вкусе. Человек должен расти и знать, что в природе есть запреты. А то как он это поймет потом? Всегда было можно и вдруг нельзя? С чего это? Нет, мне проще с самого начала ограничивать ребенка, чем потом с ним скандалить.
Мы долго тогда говорили с девчонками о том, где проходит граница свободы и вседозволенности, о том, что можно разрешать, а что не имеет смысла запрещать. Конечно, выходило, что у каждой свои ценности, в том числе и в самом прямом смысле. У меня, например, были только простенькие деревянные бусы, которыми Нюське всегда можно было играть. А у Юльки — «золото–брульянты», которые даже Катерине не разрешалось трогать.
Вопрос режима почти сразу замяли. Понятно, что с ним удобнее, но убиваться ради предсказуемости событий дня никому не хотелось. Решили, что все зависит от семьи. Там, где сама мама привыкла к распорядку, и дети подстроятся. А такой маме, как я, даже вывешенное на стенке расписание дел, таймер и будильник не помогут.
Отдельной темой было отношение к опасностям. Всем нам, действительно, очень страшно позволять детям делать некоторые вещи. Но тогда возникает слишком большой риск того, что без нашего участия они не почувствуют существующих угроз. Выходит, мы боимся вместо них, и чем сильнее наше стремление оградить и уберечь, тем больше их желание попробовать «а что, если…» в наше отсутствие. При этом Наташка говорила, ссылаясь на опыт своих виртуальных знакомых, что дети тоже бывают разные и нельзя вывести одно правило для всех. Кого-то нельзя ограничивать, а кого-то все-таки приходится, потому что сам он совсем не чувствует опасность. Она еще утверждала, что, ограничивая негативный опыт ребенка, мы тем самым мешаем ему осознавать собственные потребности. И даже как-то сделала вывод: если постоянно создавать абсолютно удобную и безопасную среду, ребенок не научится оценивать свое состояние и не станет просить о помощи, если ему будет плохо.