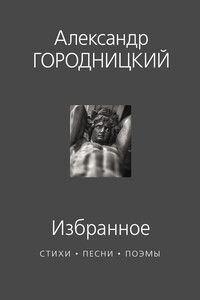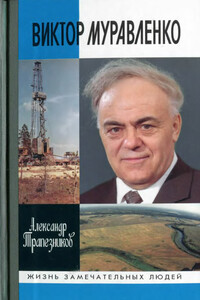Атланты. Моя кругосветная жизнь | страница 37
Заканчивался трудный 47-й год, завершавший для меня пору недолгих мальчишеских увлечений. Марки, которые я начал собирать еще в 44-м, в эвакуации, мне уже изрядно поднадоели. Пробовал в шестом классе начать собирать открытки, но из этого тоже ничего не получилось. Тогда почему-то была пора коллекционирования – все что-нибудь собирали. Отец пытался склонить меня к занятиям фотографией и подарил на день рождения свой старый «Фотокор», снимавший еще не на пленку, а на специальные стеклянные фотопластины. Поначалу мне понравилось это занятие. Особенно привлекали меня ритуальное таинство проявления и фиксации негативов и печатания фотоснимков, секреты рецептур проявителей и фиксажа, приготовление соответствующих растворов, напоминающее о средневековых алхимиках. Наконец, таинственная процедура при красном полутемном свете, когда со дна кюветы, из черноты раствора, вдруг проступает человеческое лицо. У нас в школе образовался кружок фотолюбителей. Вел его чрезвычайно бледный и болезненный человек с тихим голосом, одетый в неизменный вытертый пиджак с бахромой на продранных рукавах. Он сказал, что все его занятия надо записывать, как лекции. «Ну-ка, покажи, – сказал как-то отец и, посмотрев мои записи, произнес: – Это знающий человек. Сразу видно, что специалист высокого класса». Занятия, однако, продолжались недолго. На одно из них пришел директор школы и попросил у нашего учителя документы. На этом все и кончилось. Лишь через несколько лет, уже после смерти Сталина, когда только началась пора реабилитации, вспомнив грустный облик нашего болезненного учителя, я понял, откуда он к нам попал.