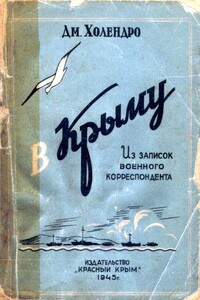Горелый порох | страница 138
Все реже и реже Штык топил свою кухню, не потчевал он солдат и неугомонством своих шуток. В последний раз он скаламбурил, когда дед Федяка привез тушу убитого немецкого битюга при очередной бомбежке Плавска нашими «кукурузниками».
— Эй, русская пяхота, рубай германскую кавалерию, пока жрать охота! — с натужной веселостью возглашал Штык, оделяя солдат крохотными кусочками конины.
Зато вовсе он не заводил шуток, когда старик привозил собранную ребятами во главе с федякинским внуком «милостыню». Собирать ее, по словам старика, надоумил Богомаз. Сам же намалевал на липовой доске какого-то угодника, приладил к ней фанерку с надписью:
«Подайте, Христа ради, на спасение пленных!» и повелел ребятам ходить по домам собирать милостыню. Ватажка подростков с котомками за плечами, будто славя Христа в святой день, обходили с иконкой слободы Плавска и ближние деревни. Люди ахали-охали — ни в кои-то годы с иконкой! Подавали, у кого что было. Подавали нежадно, однако мало — самих подстерегала голодуха. Но и то, что набиралось, шло во спасение обреченных. Штык «умел» накормить и семерых одной корочкой…
И каким же было потрясением, когда лагерь узнал о гибели Штыка. Все ослабевшие и потерявшиеся умом умирали «по-тихому», кто как, но без переполоха со стороны начальства. Но дня за три до случая со Штыком, видно, не совладевший с собой, повесился на собственной обмотке молоденький красноармеец. Он не искал укромного места, a будто назло всем, сотворил самоубийство почти в центре парка, на суку старого вяза, неподалеку от кухни. Дело случилось ночью, когда ни часовые, ни свои не могли видеть. Поутру промешкали снять бойца позатемну, а потом пришел Черный Курт со своей свитой, и Речкин перевел приказ коменданта: «Храбреца не снимать. За попытку сделать это — расстрел на месте!». Непонятным, однако, было: то ли Черный Курт назвал самоубийцу храбрецом в насмешку, то ли Речкин опять спорол отсебятину: «Так сводят счеты с жизнью только трусы!». Сказано явно для острастки.
Но как бы то ни было, покойник провисел три дня и три ночи. И все это время Назар Кондаков мучился в молитвах: «Прости, господи, и помилуй несчастного…»
— Да што ты панихиду гнусавишь? — набрасывался на него Штык. — Не изводи, Назар, себя. Господь всех простит, аль он не видит, што от чего…
— Дай топор, — молил Кондаков, — срублю сук — сниму грех с души парня…
— Порасстреляют же всех, — пугал повар.
— Зачем же всех? Меня одного — и пусть… Все равно близка моя дороженька…