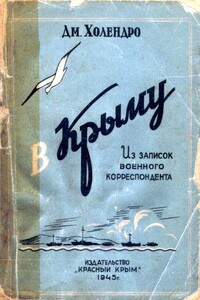Горелый порох | страница 131
— Если так лихо наши немчуру лупят, отчего ж отец родной в метро-то упрятался, а не с кремлевской стены речь держал?
— Ну, об этом богомаз — молчок. А я так кумекаю: дело военное, может, какая тайна у Верховного-то, — орать на миру не способно. А может, прихворнул, ветра побоялся. В Москве-то, сказывают, уж и снегу навалило, хоть в сани запрягай…
Много загадок назагадывал старый Федяка. И праздничный парад, и верховная речь о миллионах побитых немцев — все это сошло за тихую неправду болтливого старикашки. Вранье ему простилось, да и на уме пленных в эти минуты были не парады и речи, а голод. Как только Федяка вывел свою лошадь за лагерные ворота, красноармейцы принялись грабить самих себя. Не щадя друг друга, они набивали горелой пшеницой рты, карманы, пилотки.
— Ребята!.. Братцы!.. Сволочи!.. — орал Штык на голодных сопленников. — Остепенитесь! Я вам кулешу наварю… Оглоеды, чем завтра будете жить? Послезавтра?… Землю станете грызть, мать вашу…
Не смогший предотвратить самограбеж, потерявший голос и силы, Штык плюхнулся на проножку походной кухни и, упрятав голову в ладони, застонал, словно получивший рану… Когда очнулся, вблизи уже никого не было, кроме пограничника Кондакова. Назар, елозя по пологу плащ-палатки, добирал остатки. Пересыпая с ладони на ладонь черную пшеницу, отвеивал мусорную половку и ссыпал зерна в зеленую фуражку.
— И ты здесь? — проворчал с обидой Штык. — Тоже впрок запасаешься? Две жизни хошь прожить?…
— Не себе я, — спокойно ответил Назар. — Там, в сарае, ребята ослабшие… Уже ничего и не просят. Им бы хоть по горстке…
— Ну, ну. Им надо, — согласился Штык. — Да и о раненых забыли, оглоеды.
— Раненых, слава богу, местные старушки кормят, — пояснил Кондаков. — Мне об этом санинструктор Речкин сказывал. Немцы маленько дозволяют. Так что с ранеными дело терпимое.
Штык вроде бы успокоился и уж без прежней злости глядел в пепельные, заросшие лица пленных собратьев, жадно поедавших разграбленное у самих себя зерно, не думая ни о каких запасах хотя бы на грядущий день. В каждом работала слепая стихия: я поживу сегодня, а все остальные — завтра…
На следующий день после постыдной самограбиловки на лагерь, на Плавск и, казалось, на всю матушку Россию обрушился провальный тяжеленный дождь, сгоняя с земли последние крохи осеннего тепла. К голоду и холоду прибавилась несносная мокредь, сулившая окончательную погибель. Школьный сарай спасал лишь малую часть наличного состава лагеря. Но скоро и он превратился в душегубку. Не всех держали ноги. Люди падали от изнеможения и, моля о пощаде, на карачках выбирались на волю, как из преисподней. Спасшийся таким способом отползал к ближайшему дереву, и ледяной ливень добивал его до блаженного беспамятства. Те же, кто перемогал стихию под открытым небом, кучковались под большими деревьями, укрываясь чем попадя. Прятались в шалашах и в сарайных закутках, кое-как сгороженных на скорую руку.