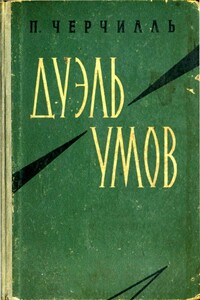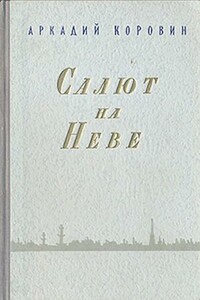Горелый порох | страница 118
— Давай, мотай — тут и понимать нечего: раз уж забоялся — и голову в мотню засунешь, не токмо партийный причиндал.
Кондаков хотел уязвить похлеще сопливого большевика, но пожалел молодость.
— Это — не «причиндал», боец Кондаков, а партбилет, — всерьез поправил старшина пограничника и напомнил о законе тайны: — Язык — за зубы! Поднял? Знай, друг Назар, стукачи водятся всюду. Сыщутся они и тут, в лагере. «Бдительность для чекиста — это курок на взводе», — так нас учили бывалые энкавэдисты.
Наставляя Кондакова, Речкин тем временем запеленал партбилет в кусок бинта и стал приматывать тонюсенькую книжицу к ноге Назара. Тот, терпя унижение, однако, не злобясь, стал плести что-то смешливое:
— Па-а-теха, ей-бо! То ты меня, старшой, записал в ЭНКАВЭДЭ, теперь приматываешь к ВЭКАПЭБЕ… Эдак я вперед тебя в начальство вознесусь. Ежели, конешно, мы суцелеем с тобой и, как ты говоришь, нас вызволит из полона сам товарищ Сталин.
— Тши-ш-и! — санинструктор потянулся ладонью к губам Назара, чтобы загородить рот, но тот брезгливо увернулся и договорил свое:
— Теперь мне дрожать, а не тебе. Теперь я — вроде как партийный, а ты — беспартейный. В отставке, значит…
Когда Речкин кончил свою «перевязку», Кондаков намотал вонючую портянку поверх бинта и сунул ногу в сапог.
— Ну, вот и вся наша «тайна», — без прежней оторопи проговорил Речкин и посоветовал: — Ты, Назар, для конспирации прихрамывай маленько — вроде как легко раненый.
— Погоди, мил человек, может, на карачках ползать придется, не токмо хромать…
— Ну, ладно, захныкал. Даю партийное слово: я тебя не оставлю в беде, боец Кондаков!..
Речкин порылся в сумке, достал свою половинку сухаря и протянул Кондакову:
— Бери! Это тебе на завтра, а там видно будет. Спасибо табе за дружбу, Назар.
Темень уже сгущалась до непроглядности, и санинструктор смелой побежкой зашустрил к школе, где на первом этаже обустроилась караулка и у входа стояли часовые. Тыча пальцем в красный крест на сумке и подбирая просительные слова по-немецки, он сумел все-таки пробраться на второй этаж, куда были загнаны раненые.
«Вот бедова голова, — дивился пронырливости Речкина Кондаков, — будь она почерней да покучерявей, нарвалась бы на веревку». Назар вздрогнул от своей же мысли и послал во тьму, где скрылся старшина, крест и молитвенно прошептал: «Осподи, сохрани и помилуй его!»
Кипятку Кондакову не досталось. Он отщипнул кроху сухаря и положил, как спасительную таблетку, под язык. С голодухи до оскомной боли донимала тошнота и нестерпимо хотелось спать. Он заглянул в воротца школьного сарая, но там — ни единого местечка: чуть ли не штабелями, в привальной повалке лежали бойцы. Словно от пушечной канонады шумела жестяная крыша от храпа. Непродышная густель запахов пота, давно немытых тел, летучая гниль сбитых сапог и сырых обмоток взрывной волной вышибли Кондакова из воротец, и дурнота закружила его, будто с контузии. Шатаясь, как спьяна побрел по парку. Ничего не видя, натыкаясь на деревья и на убито спящих солдат, он брел, не чуя куда. Наверное, напоролся бы на проволоку или на часовых, не остановись он от бессилия. Назар привалился грудью к молоденькой упругой березке, чтобы передохнуть, но она будто оттолкнула его, и тот упал навзничь в сохлую траву и тут же заснул…