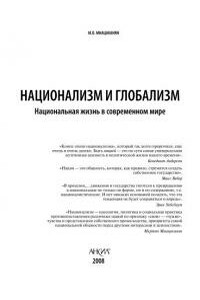Воображаемые сообщества | страница 50
Хотя религиозные паломничества — это, вероятно, самые трогательные и грандиозные путешествия воображения, у них были и есть более скромные и ограниченные мирские аналоги[154]. С точки зрения наших целей, наиболее важными среди них были новые переходы, созданные появлением стремящихся к абсолютности монархий, а в конечном счете, мировых имперских государств с центрами в Европе. Внутренний импульс абсолютизма был направлен на создание унифицированного аппарата власти, непосредственно подчиненного правителю и преданного правителю, в противовес децентрализованному, партикуляристскому феодальному дворянству. Унификация предполагала внутреннюю взаимозаменяемость людей и документов. Взаимозаменяемости людей способствовала вербовка (проводимая естественно, в разных масштабах) homines novi[155], которые, по этой самой причине, не имели собственной независимой власти, а следовательно, могли служить эманациями воль своих господ[156]. Абсолютистские функционеры совершали, стало быть, путешествия, принципиально отличные от путешествий феодальных дворян[157]. Это различие можно схематично описать следующим образом: В образцовом феодальном путешествии наследник Дворянина А после смерти своего отца поднимается на одну ступень вверх, дабы занять отцовское место. Это восхождение требует поездки туда и обратно: в центр, где его вводят во владение, и обратно, в родовое имение предков. Для нового функционера, однако, все усложняется. Талант, а не смерть, прокладывает его курс. Он видит впереди себя вершину, а не центр. Он взбирается по кручам серией петляющих движений, которые, как он надеется, будут становиться короче и экономнее по мере того, как он будет приближаться к вершине. Посланный в местечко