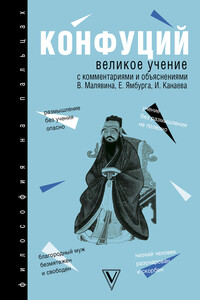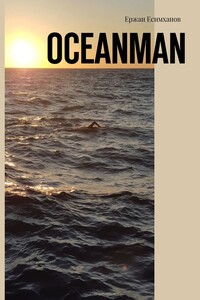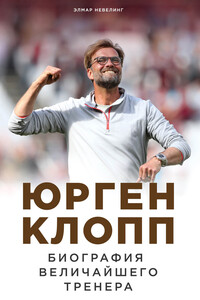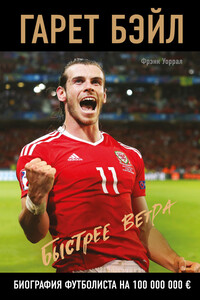Тайцзицюань: классические тексты, принципы, мастерство | страница 84
Независимо от его реальной биографии этот персонаж имеет в традиции тайцзицюань совершенно исключительное значение, которым в Китае всегда наделяется основоположник целой традиции духовной практики. Патриарх школы (цзу) выступает олицетворением ее самобытного «духа» и даже более того – самой природы духовной практики, воплощающейся, строго говоря, не в отдельном индивиде, а в определенном вечносущем состоянии и типе личности, каковым и соответствует над-временная природа школы в ее качестве среды и способа духовного преемствования.
Можно сказать, что, если бы Чжан Саньфэна не было, его следовало выдумать, чтобы традиция тайцзицюань могла появиться на свет. Он стал полубожественным патроном даосских боевых искусств подобно тому, как Бодхидхарма занял положение патриарха всех буддийских школ ушу. Заметим попутно, что патриарху, в отличие от непосредственного учителя, невозможно подражать. Можно только добиваться, или, вернее, спонтанно открыть свое подобие его опыту. Это подобие не предполагает внешнего сходства. Духовная просветленность потому и может жить в поколениях, что являет собой чистое событие, недоступное мысли или восприятию, по сути недоступное подражанию, как гениальность у Аристотеля. Она есть неисчерпаемая конкретность, чистая изменчивость существования и потому остается иной по отношению к любой данности.
Опыт подобия дается на самом деле через сознание своего отличия от других. Этим объясняются, как мы знаем, необходимость учителя, а равно бытующее в даосских школах правило (надо сказать, сильно затрудняющее изучение даосских генеалогий): «называть патриарха и не называть учителя». Ибо только патриарх – уникальный и неповторимый, в своей уникальности чужой любому внешнему образу, но «единый в множестве лиц» (не оттого ли его иконографический канон несет на себе неизгладимую печать иронии?), представляющий тем самым типовые, сверхличные качества бытия – является истинной целью образования в школе и, следовательно, залогом бессмертия традиции.
Еще в начале XX в. А. Бергсон говорил о виртуальной природе памяти, которая в этом смысле не является образом чего-либо бывшего в истории, но обладает самостоятельностью и свойством продлеваться, воспроизводиться заново в потоке времени. Образ патриарха школы и есть явление этой подлинной реальности духовной жизни как чистого события. Существует временной лаг между событием и его проявлением и тем более фиксацией в сознании. Образ события никогда не совпадает с актуальным существованием и тем не менее не существует вне него, т.е. вне вечнодлящейся дифференциации, воплощенной чистой временностью. В этом смысле он носит характер фантасма, т. е. чего-то, пребывающего между присутствием и отсутствием, исчезающего без исчезновения, длящегося в самой своей сокровенности (не отсюда ли и ускользаемость образов даосов в истории?). Патриарх школы воплощает, в сущности, возможность посредования, дифференциальное отношение между бесчисленным множеством моментов (по сути, предельно коротких длительностей) существования. Ему сродни фигура «темного предшественника» отдельных и постоянно расходящихся цепочек смысла в «онтологии множественности» Ж. Делёза. Оттого же способ бытования патриарха в традиции есть непрерывное