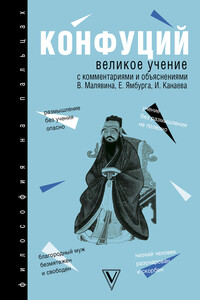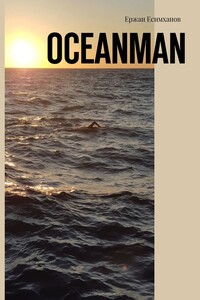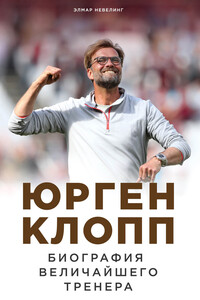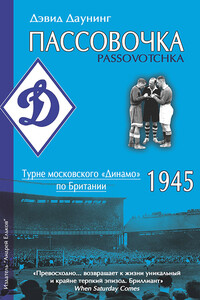Тайцзицюань: классические тексты, принципы, мастерство | страница 74
Отвлекаясь от социальных факторов, надо сказать, что существовали глубокие культурно-философские причины, делавшие невозможным прямое и открытое сообщение между мирской публичностью и мудростью Дао: последняя, напомним, представляла собой нечто «совершенно обратное» здравому смыслу обывателей и логике идеологических систем, но собственной доктрины не имевшее. Более того, как вечно отсутствующая реальность, неведомый первопре-док в нас истина Дао требовала иносказательности речи и тайнописи в тексте, присутствовала в самом скольжении смысла за горизонты общепонятных значений. С этой точки зрения неопределенность социального лица хранителей традиции боевых искусств не случайна и в своем роде существенна. Предание имеет свои внутренние коллизии. Оно, как уже говорилось, предает себя миру и предается им. Нить предания – в сущности, нить человеческой судьбы – свивается из двух очень разных, даже противоположных тенденций: стремления определить, собрать себя и стремления преодолеть, или, как говаривал В. Розанов, «распустить» себя. Первая тенденция соответствует сознанию своего несовершенства и началу нравственного долженствования (ибо в самосознании мы всегда ощущаем свою отделенность от истока жизни и, следовательно, свою ограниченность). Вторая тенденция питается избыточностью творческой аффектации, переживанием безграничной мощи жизни. Недаром традиция, как правило, требует от ее хранителей взять себе одно или даже несколько прозвищ: творчество есть уподобление Другому,