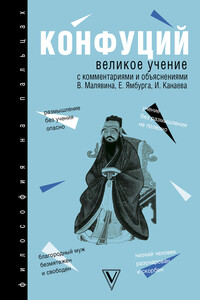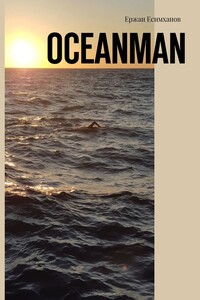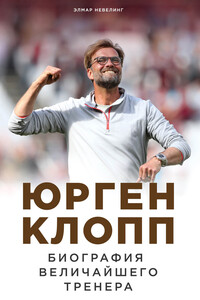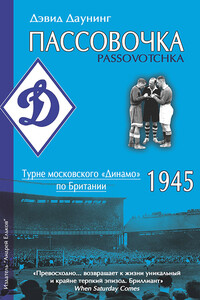Тайцзицюань: классические тексты, принципы, мастерство | страница 60
Идея такого истинно символического действия, зияющего бездной «одухотворенного желания», породила понятие «категории», «типа» (пинь, гэ) - одно из важнейших в китайской традиционной культуре. Оно во многом сходно со старорусским понятием чина, обозначая и качество состояния в мировой иерархии, и внесубъективное, просветленное действие, и орнаментальность, красоту формы (но не саму форму). Строго говоря, традиция в Китае представляет собой не систему отвлеченного знания, а репертуар типовых форм, обозначающих некое качество «жизненной силы» (ци) или «конфигурации сил» (ши). Тип – это момент актуализации со-бытийности вещей, пронизывающий все планы бытия, скрепляющий исток и исход всего происходящего. Китайские художники не рисовали ту или иную реальную гору или некий обобщенный ее образ, еще менее – идею горы. Они запечатлевали на своих пейзажах определенный тип горы, момент самотрансформации ее бытия, схваченный в «темном» свете всеединства, которое снимает оппозицию внутреннего и внешнего, подобия и неподобия. Уже в XII веке китайские теоретики живописи различали более трех десятков типов горы. В тех же трактатах упоминаются до двадцати и более типов деревьев, камней, водной стихии, облаков и проч. А будущий музыкант, обучаясь игре на цитре, должен был освоить 82 нормативных аккорда, составлявших канон игры на этом инструменте. В совокупности отдельные типы создают определенное «настроение», как бы дыхание пространства, и это – тоже тип более высокого порядка. Пространство типов выстраивается по образу и подобию живого тела, в нем все равно близко и далеко, в нем действует «жизненная воля», которая и позволяет отдельным выдающимся мастерам тайцзицюань наносить удар как бы (действительно как бы!) на расстоянии.
Итак, для восприемника китайской традиции вещи ценны не сами по себе, а поскольку они претворяются в типы и «смешиваются во всеединстве», создавая определенную атмосферу, качество ситуации, или, по сути, «единотелесность» мироздания, бесконечно большую и бесконечно малую. В этом пространстве разлита сильная аффектация, почти экстатическая радость, которая по мере разрастания и утончения деталей восприятия, другими словами – повышения духовной чувствительности, становится все более рафинированной, пустотной и в конце концов переходит в чистое веяние духа как дыхания живого тела; дыхания, которое все смиряет, уравновешивает, приводит к безупречной центрированности. В этом пространстве «вольного странствия» (ю) духа, где сознание освобождено от субъектности и сливается с самой жизнью, мы можем с детским чистосердечием, но и по-детски легкой изобретательностью играться, тешиться вещами, открывая в них новые качества и находя им новое применение. Поистине мы можем вступать в любовное общение с вещами, лишь возродив в себе детскую доверчивость, по-детски чистое доверие к жизни.