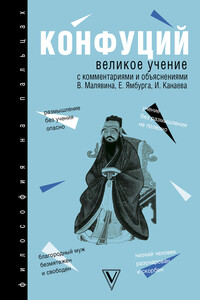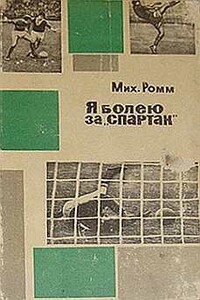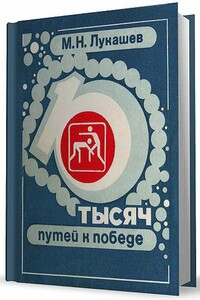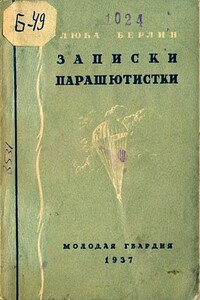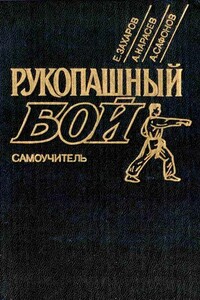Тайцзицюань: классические тексты, принципы, мастерство | страница 10
Канонические тексты китайской традиции, особенно даосизма, воспроизводят эту изначальную, но и бесконечно сложную матрицу существования. Последнюю сравнивали в Китае с прозрачной жемчужиной, которая принимает в себя все цвета мира. А сами тексты требуют пережить, повторить чистый опыт (скажем пока так) реальности, открывшейся когда-то основоположникам тайцзицюань. Не говорят ли эти бесконечные повторы текстов тайцзицюань о необходимости повторить и породивший их опыт? Этот глубоко осмысленный «разговор ни о чем» легко и даже нельзя не длить, воспроизводить, повторять. Он растекается, ветвится бесконечно сложной игрой отражений в кристалле жизни, мимолетных, всегда новых проявлений жизненной правды. Ведь каждое видимое событие подготавливается бесчисленным множеством неприметных, микроскопических изменений. В книгах о тайцзицюань все написано «в общем правильно» и даже, как уже говорилось, одинаково. Но малознающих авторов подводит излишняя жесткость мысли, догматическая прямолинейность суждений, выдающие отсутствие реального опыта, который, заметим, всегда конкретен и выражается как бы в нюансах, недомолвках, метафорах, превыше всего – в способности прозревать во всех вещах их инобытие, видеть силу жизненных превращений. Да, правда тайцзицюань, как сама жизнь, сокрыта в подробностях и, увлекая в них, уводит в нечто «другое», переворачивает привычные представления. В тайцзицюань есть строгие правила, но эти правила относятся к переживанию чистой конкретности существования и потому справедливо именуются «правилами без правила».
Отсюда многие трудности понимания текстов тайцзицюань, которые как будто лишены композиционного и жанрового единства, не содержат даже попыток определения понятий. Да и как можно определить в понятиях, предполагающих наличие в смысле хотя бы минимального логического тождества, реальность бесконечно саморазличающуюся, всегда и во всем неравную себе? Такова правда непосредственного переживания жизни – несказанно богатого и утонченного. Наше тело знает несравненно больше, чем может понять наш разум и высказать наш язык.
Тайцзицюань – уникальное в своем роде искусство, развивающее чувствительность к телесному опыту, т. е. к реальности как нельзя более естественной, но упорно игнорируемой сознанием. Как культурное явление оно выросло на пересечении двух очень разных перспектив: личного опыта и понимания, неизбежно окрашенного систематикой знания, наследием отдельных доктрин. Что такое эта нераздельность переживания и целостности знания? Догадка? Обещание? Свершившийся факт? Здесь кроется какая-то ошеломляющая правда сродни, быть может, «чистой мистике деяния более упоительной, чем философия», о которой писал Р. Кайуа. Впрочем, слово «мистика» тут может ввести в заблуждение. В тайцзицюань нет ничего мистического, если понимать под этим словом нечто недоступное пониманию и требующее слепой веры. Правда тайцзицюань требует как раз полнейшей трезвости духа и в своей последней глубине есть не что иное, как просто осознание себя живущим-в-мире.Чистое, как говорили в Китае, «бодрствование одинокого», которое, строго говоря, нельзя свести к субъективному сознанию и его средствам рационализации мира.