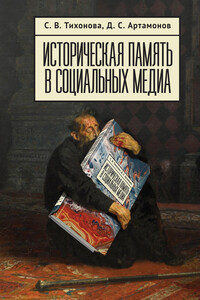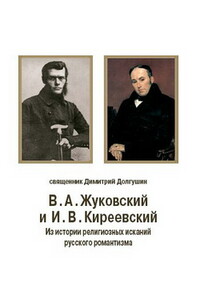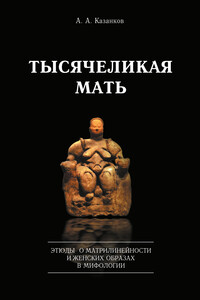Слово — письмо — литература | страница 19
В незавершенной статье 1919 г. «О пародии» Тынянов, отталкиваясь от Бергсона, писал об этом так: «Пародия зарождается в результате восприятия напряженности, данной в литературном произведении <…> Напряженность неизбежна в результате типизирующего творчества вообще, творчества, из некоего живого материала извлекающего ряд основных линий, жестов, речей, что дает неминуемо фигуры схематизированные…» (с. 539). Лексическая близость здесь к некоторым характеристикам замятинского метода — и автохарактеристикам Замятина — бросается в глаза, приоткрывая, видимо, близкие ходы мысли, аксиоматику мышления, его «общие места». Важно еще раз подчеркнуть, что реконструируемый метод демонстрирует и воспроизводит раздельность миров реальности и литературы, мышления и действительности. В этом смысле «подсказкой» от противного в замятинском романе выступает притча о дикаре, ковыряющем в барометре, чтобы изменить погоду. Этот образ, рамкой охватывающий романное повествование, указывает на литературный характер развернутого мира и вместе с тем — на кошмар действительности, построенной по рецептам разума (что, собственно, и есть тема антиутопий как таковых).
В этом — как близость позиций Замятина и ОПОЯЗа, так и особенность замятинской точки зрения. Представление о литературе как утопии (автономной смыслотворческой деятельности, рождающей самодостаточную реальность), а соответственно и понимание ее как принципиальной критики устоявшихся идеологий литературы и типов литературности, борьбы с готовыми формами мышления и языка, Замятин с опоязовцами, как кажется, разделял. В этом смысле они составляли литературный и интеллектуальный авангард, задача которого, как ее, по воспоминаниям Л. Я. Гинзбург, формулировал Тынянов, — заставить «двигаться в новых смысловых разрезах»[51].
Вместе с тем для Замятина эта критика литературного разума составляла лишь один, пусть основополагающий, аспект роли литературы, как он ее понимал. Автономность литературы выступает для него гарантией критики любых наличных смысловых порядков, а проблематизация реальности в литературе неотделима от рефлексии над природой реальности как таковой, инстанциями и формами ее удостоверения. Объединяясь с опоязовцами в трактовке литературы как «жестокой борьбы за новое зрение»[52], Замятин — как, впрочем, и Тынянов к моменту написания только что цитировавшейся статьи «О Хлебникове» (1928) — считал необходимым идти дальше, за пределы «только литературы». В замятинских статьях первой половины 1920-х гг., подытоживающих опыт работы над романом, намечается траектория этого движения. В 1924 г. он пишет о «фантастическом размахе духа нашей эпохи», которая разрушила «быт, чтобы поставить вопросы бытия»