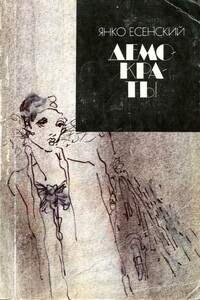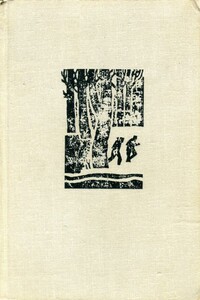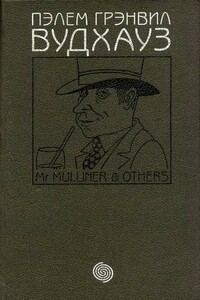Праведная бедность: Полная биография одного финна | страница 11
С недавних пор кокемякинцы один за другим стали селиться в здешнем приходе. Это гордый, нимало не считающийся с местным обычаем народ. Даже на пригорке перед церковью, закутанные в платки и тулупы, они громко переговариваются между собой на своем плавном наречии.
Свеча вот-вот погаснет, Пеньями — тоже. «Видать, больше, чем на свечу, тебя не хватает», — говорит папаша Оллила. Он только-только начинает оживляться, а Пеньями уже выдохся. «Зря ты осерчал на меня в тот раз, когда я не дал тебе денег. Откуда мне было знать, как обстоят твои дела?.. Ну, скажи мне: на кой черт ты затеял эту женитьбу?»
Как ни пьян Пеньями, он все же чувствует, насколько чужд он этим людям, сколько в них раздражающего высокомерия. Точно и он, и его хутор независимо от их желания уже находятся в их власти. В Пеньями пробуждается безотчетная злоба, он встает, словно намереваясь что-то сделать. Однако папаша Оллила тоже встает и говорит:
— Ну, а теперь отправляйся-ка домой, соседушка, проведай свою бабу. Она поди уже рожает.
Отец и сын выводят Пеньями на крыльцо. Он выбирается в проулок и, тараща глаза во тьму, нащупывая ногами дорогу, бредет домой, на другой конец деревни. Хмель погасил в мозгу все обыденное, привычное, и его жизнь, его теперешнее положение предстают перед ним во всей своей тошнотворной наготе. Эта земля, это небо и эти кокемякинцы — их не возьмешь на всякие штучки-дрючки. Других возьмешь, а этих — нет. Нестерпимо ощущение, что есть в жизни что-то такое, с чем не справишься и от чего все же никак не отделаешься. Она прямо-таки душит его, эта смутно теплящаяся в мозгу мысль, что есть вещи, с которыми хочешь не хочешь приходится считаться.
Бормоча себе что-то под нос, старый Пеньями садится на край дороги.
Дом на Никкиле. В светце горит лучина, при ее свете сидят две дочери Никкиля: старшая, Ева, и младшая, Марке — рыжеволосые, с маленькими глазками. Обе они — единственные из его детей, оставшиеся в живых, — родились от второго брака Пеньями; обе очень похожи на покойницу мать. У них угрюмые лица, они мало разговаривают даже между собой, но тем не менее всегда держатся вместе. Сегодня вечером они как-то особенно горячо чувствуют себя единым целым: все оставшееся до сна время можно безраздельно хозяйничать в доме. Ведь когда нет ни хозяина, ни хозяйки, уходят и работники, — теперь самое время попьянствовать, попробовать запродаться кому-нибудь еще. Лишь стрекочут за печкой сверчки да ни в сон, ни в явь потрескивает, закручиваясь угольком, лучина. Марке сидит под самым светцом и читает вслух по длинному, узкому катехизису; Ева, чуть поодаль, усердно крутит ногой прялку. Когда Ева останавливается, чтобы закинуть нитку на следующий зубец, Марке поднимает голову, как бы желая что-то сказать, но сестра снова толкает колесо и, послюнив палец, продолжает прясть. В Марке есть что-то детское, она еще не конфирмована, зато Ева почти взрослая.