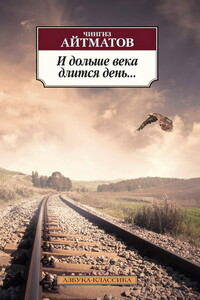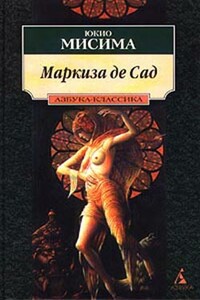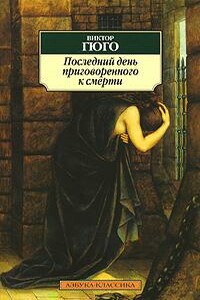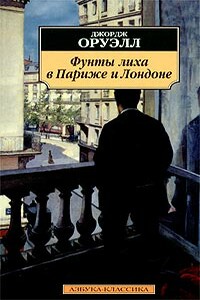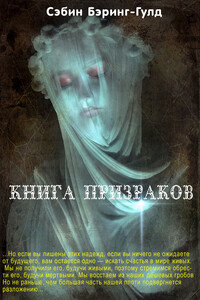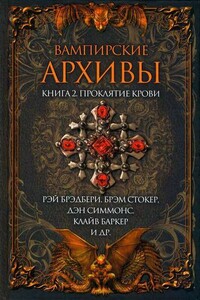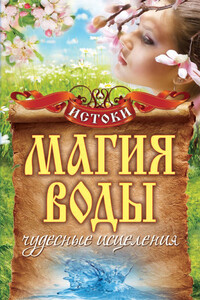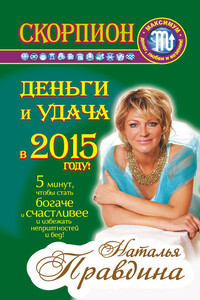Книга оборотней | страница 9
Романы и рассказы С. Бэринг-Гулда также в значительной степени отражают его интерес к таинственному и необъяснимому, что особенно ярко выразилось в сборнике «готических» рассказов «Книга призраков» (A Book of Ghosts, 1904). При всем том он же является автором шестнадцатитомного собрания «Жития святых» (Lives of the Saints, 1872–1889) и других агиографических работ, множества проповедей, церковных гимнов и трудов по развитию и становлению христианской веры.
Неоднозначность и многогранность самой личности писателя, его причудливые увлечения вкупе с невероятным трудолюбием, которое помогало ему достичь результата в любой интересной для него области, нашли отражение уже в его ранних произведениях, в частности в «Книге оборотней» (The Book of Were-Wolves, 1865), одном из наиболее широко цитируемых источников в исследованиях по ликантропии, «волчьей болезни», уступающем по популярности разве что упомянутым выше «Любопытным мифам и легендам Средневековья».
Можно по-разному относиться к «Книге оборотней», искать и находить (или не находить) в ней многообразные аспекты и оттенки этого расплывчатого понятия, но нельзя отказать автору в отваге: браться за тему, в которой так тесно переплелись самые различные области науки, религии и повседневности, решится не всякий. Разумеется, в каждой из этих областей Бэринг-Гулд предстает безусловным дилетантом, и его философский пафос в истолковании паранормальных явлений отличается заметным эклектизмом и непоследовательностью. Например, затрагивая мотив оборотничества в мифологии, он не проводит грани между первобытными (тотемными, анимистическими и др.), эллинистическими и средневековыми представлениями о зооантропоморфизме, уже в первой главе утверждая, «что под маской мифа скрыта страшная реальность, а в основе народного суеверия лежит объективная истина. Эта истина такова: некоторым из нас от природы присуща жажда крови, которую в обычных условиях мы в состоянии сдерживать, однако в силу различных обстоятельств она может неожиданно брать верх над разумом, вызывать галлюцинации и провоцировать каннибализм». Эта установка изначально суживает само понятие, сводя его только к «кровожадному оборотничеству», порождаемому нездоровым сознанием и порождающему преступления. Подобная установка в дальнейшем повествовании проявляется, например, в том, что Бэринг-Гулд практически не рассматривает примеры «некровавого», или жертвенного, оборотничества, а если и приводит такие примеры, то не комментирует тот очевидный факт, что они расходятся с им же самим сформулированным объяснением природы образа оборотня.