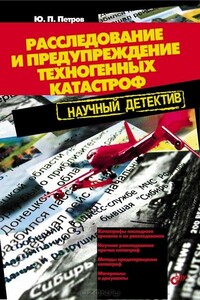Записки профессора | страница 66
Таким образом, чисто денежного результата от своей работы 1963—64 гг. я не получил (всё досталось государству), но у меня остались прекрасные воспоминания о том, как по нашей воле покорилась и утихла «спутная волна», о том, как посреди нашей красавицы, реки Волги, мы дружно настраивали наш регулятор вместе с молодыми инженерами, которые в тот момент ещё думали только о деле, а совсем не о будущих деньгах и склоках, которые так быстро разрушили наше сотрудничество и дружбу.
Кроме того, я начал анализировать – а почему же мне удалось так успешно решить задачу оптимального управления при неизвестном заранее распределении глубин по фарватеру? Ведь обычно задачи оптимизации нелинейных систем при неизвестных возмущениях не разрешимы. Подробный анализ показал, что расход топлива теплохода относится к классу особых, вырожденных, функционалов, для которых достижим минимум даже при неизвестных возмущающих воздействиях, а это открыло путь к решению других оптимизационных задач. Их решение вошло в мои книги: «Оптимальные регуляторы судовых силовых установок» и «Оптимальное управление движением транспортных средств», вышедшие в свет в 1966 и 1969 годах.
Но всё это было уже позже, а тогда, весной 1965 года, после ухода Неуймина с заведывания лабораторией и закрытия нашей тематики, я решил принять предложение Наримана Измаиловича Болтунова, перейти к нему на работу по созданию «искусственного мозга», а точнее – большой самонастраивающейся машины, собранной из элементов, подобных нейтронам мозга, и управляющей посадкой самолётов. Работа эта проводилась в одном из «ящиков», т. е. засекреченных научноисследовательских институтов, работающих по военной тематике. Тогда они все назывались «почтовый ящик №..» и различались только номерами. К засекреченным «ящикам» я всегда относился настороженно, но ради реализации моей давней мечты о работе над созданием «искусственного интеллекта», над разработкой машины, которая будет «умнее человека», я рискнул и на «ящик». В результате получилось, что с 1957 по 1965 год я побывал почти во всех разновидностях научных учреждений тех лет: в коллективе энтузиастов ЛОМИ, в традиционном академическом Институте электромеханики, в лаборатории при учебном Институте водного транспорта (ЛИВТ) и, наконец, – в «ящике». За строгой проходной «ящика» я обнаружил богато оснащённую лабораторию, которая для меня была полным контрастом с очень скромным оборудованием тех институтов, где я работал ранее. Сразу чувствовалось, что основная часть денег, отпускаемых на науку, идёт на секретные работы военных. Лаборатория состояла из двух огромных светлых залов, один из них был заставлен лабораторными столами, за которыми молодые инженеры вели сборку и настройку «нейронов» – небольших коробок со сложной электронной начинкой. Уже около двух тысяч таких «нейронов» были готовы и перенесены в другой большой зал лаборатории, где из них была собрана «самоорганизующаяся система управления полётом самолёта». Самолёт имитировался большой аналоговой вычислительной машиной, которая стояла в том же зале (уравнения движения самолёта соответствовали уравнениям, набранным в машине). К моменту моего прихода в лабораторию там шла уже заключительная стадия работы: «самоорганизующаяся машина» из двух тысяч «нейронов», на которую было потрачено два миллиона тогдашних весьма весомых рублей (для сравнения – для создания регулятора для судов лаборатории ЛИВТ отпустили 17 тысяч 800 рублей), уже была собрана и должна была стабилизировать полёт самолёта, имитированного вычислительной машиной. Но стабилизации не получалось.