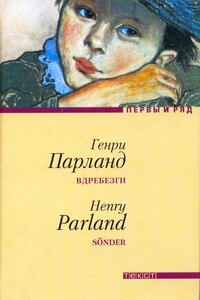Любовь в изгнании / Комитет | страница 7
— Мама говорит, неужели ты не нашла никого другого, кроме этого нищего журналиста? Ради него ты отказываешься от офицера и от врача! — И пожимая мне руку, с удивившей меня гордостью добавила:
— Это значит, что мама любит тебя и согласна на тебя!
Я уже успел понять, что мама — главная. В присутствии отца, простота и доброта которого понравились мне с первого знакомства, Манар испытывала некоторую неловкость. Она стеснялась, когда он появлялся в гостиной в пижаме или в галабее[1] и начинал с явным удовольствием рассказывать, как начальник похвалил его сегодня за составленный им документ. Как он по дороге со службы купил арбуз у торговца, поклявшегося, что арбуз «бесподобный», а арбуз оказался белее не бывает, и он тут же пошел и вернул его вралю-торговцу. Потому что он знает свои права и никому не позволит смеяться над собой.
Лицо Манар при этих рассказах покрывалось краской, а в глазах матери я читал молчаливый упрек. Но после того как мы поженились, мать уже не стеснялась выговаривать мужу в моем присутствии. А Манар прямо-таки плакала из-за того, что после выхода на пенсию отец привык выходить на улицу в галабее и часами сидеть то у парикмахера, то у бакалейщика или на лавочке рядом с баввабом.[2] Сквозь слезы она твердила: «Как тебе не стыдно, папа… Наша репутация, папа». А он смущенно оправдывался и обещал, что больше не будет. Однако, когда он умер, Манар горевала безутешно и оплакивала его долгие месяцы. Она разговаривала с ним как с живым, спрашивала, каково ему там, почему он нас покинул и скучает ли он по ней. Мне слышались в этих причитаниях, помимо искреннего горя, еще и отголоски угрызений совести, и дальнейшее подтвердило мои догадки. Манар все чаще стала вспоминать об отце как о высокопоставленном чиновнике и сильной личности, которого все сослуживцы боялись по причине его решительности и неподкупности, хотя лично он никому не причинял зла. С течением времени она и сама уверовала в это. Бывали случаи, когда она требовала от меня быть решительным как ее отец. Помню, когда меня отстранили от работы в газете, и мне нечем было заполнить образовавшееся пустое время, я задержался однажды в парикмахерской, вступив в какой-то незначительный разговор с уже подстригшим меня парикмахером, и вдруг испугался, поспешил вернуться домой и сразу сел к столу писать план моей будущей книги. С возрастом Манар стала все больше походить на свою мамашу. Она, например, упрекала меня в том, что я балую наших детей, но стоило мне наказать одного из них, как приходила в ярость и кидалась защищать его. Наказывать имела право только она сама, и чаще всего это происходило по пятницам, когда мы отправлялись на прогулку. Тут она начинала вспоминать все их прегрешения или проявления «невоспитанности», как она выражалась, за которые полагалось наказание в виде лишения карманных денег либо запрета пойти в гости к друзьям или родственникам. Увидев меня играющим в шахматы с Халидом, обвиняла меня в том, что я отвлекаю сына от занятий. А если я брал на руки Ханади и начинал кружиться с ней, отчего девочка заливалась смехом, Манар говорила, что именно из-за этой игры у ребенка на прошлой неделе болел живот. Когда я заметил, что Халид любит стихи, и стал поощрять его больше читать их, она заявила, что не следует «путать» мальчика, у которого явные способности к математике. А когда…