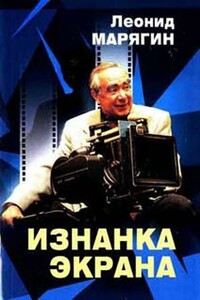Борис Андреев. Воспоминания, статьи, выступления, афоризмы | страница 48
Вспоминается другое — с каким самозабвением он, сыгравший, казалось, все мыслимые варианты судьбы «простого парня из народа», взялся за прозу А. П. Чехова. Это была его тайная любовь.
Думаю, не надо быть очень опытным кинематографистом, чтобы отличить, когда актер готовит дежурное блюдо и когда он выкладывается. Даже если нет совсем никакого опыта и отсутствует чутье, надо просто прислушаться к съемочной площадке…
Вспоминаю тишину… И только голос Бориса Федоровча…
— Яма-то эта съела тридцать пять лет жизни, и какой жизни, Никитушка! Гляжу на нее сейчас и вижу все до последней черточки, как твое лицо!..
Так говорил старый, больной трагик Блистанов, стоя на краю сцены перед провалом ночного зрительного зала, такому же бесприютному, как и он сам, театральному суфлеру Никитке…
И после команды «стоп!» тоже тишина…
И только топот ног — тяжелые шаги Блистанова, семенящая пробежка Никитки и шаги, шаги из всех углов декорации… И вот уже вся группа тяжело дышит, сгрудившись в маленькой выгородке внутри павильона. Сюда тянутся кабели, и здесь японский видеомагнитофон возвращает нам только что ушедшее мгновение. Загорается экран переносного телевизора… И снова тишина и голос Бориса Федоровича:
— Боже мой… Это ты, Никитушка? За… зачем ты здесь?
— Я здесь ночую в литерной ложе. Больше негде ночевать, только вы не говорите Алексею Фомичу. Впрочем, теперь уже все равно…
— Ты, Никитушка… Боже мой! Боже мой!.. Поздравляли… Поднесли три венка и много вещей, все в восторге были, но ни один не разбудил пьяного старика и не свез его домой. Я старик, Никитушка. Я болен. Томится слабый дух мой… Не уходи, Никитушка… Стар, немощен, помирать надо… Страшно!
Дубль докручивается до конца, маленький экран гаснет.
— Нет. Не то, — говорит Борис Федорович. — Еще раз надо бы…
Снимается еще дубль. И снова — голос в тишине:
— Страшно мне одному, некому меня приласкать, утешить, пьяного в постель уложить. Чей я? Кому я нужен? Кто меня любит? Никто меня не любит, Никитушка!
— Публика тебя любит, Вася!
— Публика? Публика ушла и спит!..
Удивительная работа — жить жизнью другого человека…
Мне кажется, особенно дорога эта чужая жизнь была для Бориса Федоровича тем, что на этот раз он рассказывал об актере, о театре, то есть о том, что знал и понимал, пожалуй, лучше всего. Напрашивается: он играл себя. Думаю, это не так. Он играл те судьбы, которые сгорели в театре, тех людей, которые не выдержали единоборства с черным провалом зрительного зала, с коварными перепадами от вершин известности до полного забвения — не выдержали единоборства со своими страхами, амбициями… Он старался выявить в Блистанове распространенную страстишку, переходящую в хроническую болезнь, — растрату души. И именно с этих позиций он вел со зрителем серьезный разговор, выходящий далеко за пределы театральных подмостков.