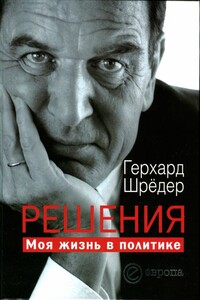Итоговая автобиография | страница 10
5
Ходасевича я открыл для себя в 1972 году, Боратынского — несколько позже. Оба идеально отвечали моей новой эстетической установке, а из современников — никто до конца не отвечал. Ходасевич был полузапретен. Его мне пришлось переписывать от руки в Публичке. Закончив эту упоительную и захватывающую работу, я с удивлением увидел, что помню все стихи наизусть: с такою силой они были пережиты. До начала 1980 года я знал только эти стихи Ходасевича и почти ничего — о нем.
В 1979 году, едва дела у Тани пошли на поправку (вместо костылей она смогла опираться на палку и выходить из дому), я, тоже в Публичке, прочел с выписками книгу (диссертацию) норвежца Гейра Хетсо о Боратынском, нигде более в те времена не доступную. Вот еще одна из гримас русского большевизма: нельзя было сказать «народу» правду о детском проступке Боратынского; оттого и Хетсо под спудом держали. Любовь к Боратынскому пережила во мне даже любовь к Ходасевичу. По сей день не устаю изумляться тому, что Россия не прочла своего второго по значению поэта.
В декабре 1979 года началась афганская война, и я сказал себе: хватит; ни с этим режимом, ни с этим потерявшим стыд «народом» я не хочу иметь ничего общего. На площадь выходить бессмысленно; взять билет в Вену нельзя; можно и должно — постараться продать свою жизнь подороже, порвать с мещанской советской добропорядочностью, чтобы хоть перед собою частично оправдаться.
За выездную визу в ту пору приходилось бороться. Как раз с 1980 года власти стали требовать «прямого родства», приглашения от родителей, братьев или сестер. У нас — все «прямые» были в Ленинграде. Четыре месяца ушло только на то, чтобы на выезд и «сесть в отказ» (что сразу не выпустят, было ясно; в народе говорили: «раньше сядешь — раньше выедешь»). Я обивал пороги, жаловался, просил. Потребовалось письмо на высочайшее имя (в ту пору России был маразматик Брежнев). Что было пережито, сегодняшним не объяснишь. Какие справки требовались! Например, о жилищных условиях сестры. Процедура была рассчитана на унижение и запугивание. Опускаю детали, но одно отмечу: люди, собиравшие чемоданы, становились предателями в глазах не одной только подлой и пошлой власти, но — в глазах : в глазах . Всё перевернули в России две революции: петровская и большевистская, — одно устояло, закрепилось в сознании: закон 1649 года из Соборного уложения Алексея Михайловича, объявлявший эмигранта изменником. Тут — московитское средневековье было свеженьким и румяным, выражало самую душу «народа». Непостижимым образом оно передавалось и самим потенциальным эмигрантам. В России жить нельзя, но — «как жить без России?» На устах у меня были веселые присказки: «Лучше жить в Майями, чем в помойной яме»; «Через четыре года здесь будет голый зад» и т. п., но приступы ностальгии случались тяжелейшие. Зато после пересечения границы — классической ностальгии мы так и не вкусили. Тут Маркс не оплошал: у пролетария нет родины.