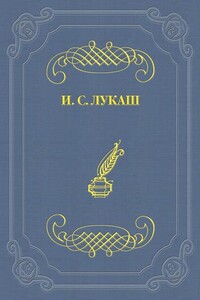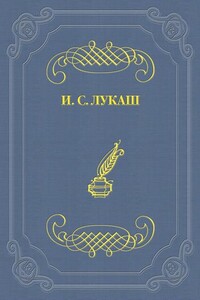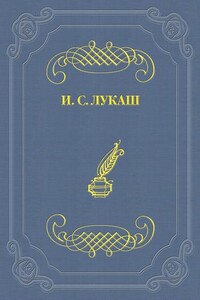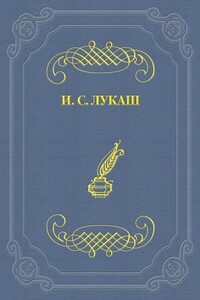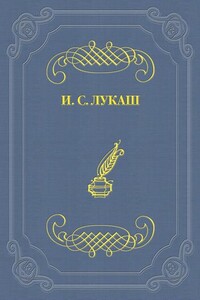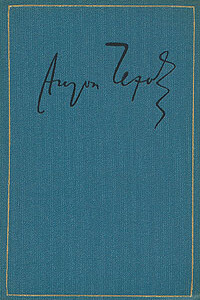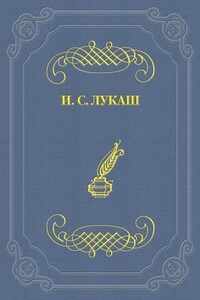Боярыня Морозова | страница 22
Княгиню Евдокию Урусову завернули в худые лохмотья, в рогожу, и, не сбивши цепей, вынесли из застенка.
Монастырский старец приходил увещевать боярыню Федосью Морозову, к ней перевели обратно из злодейского острога инокиню Марью.
– Отложите всю надежду отлучить меня от Христа, – сказала Федосья Прокопьевна старцу. – И не говорите мне об этом… Уже четыре года я ношу эти железа, и радуюсь, и не перестаю лобызать эту цепь, поминая Павловы узы… Я готова умереть о имени Господни.
Отлучить от Христа… страшно о том подумать, и нет таких слов, чтобы о том сказать, но как будто провидела Морозова, что Русь в чем-то, в самом последнем и тайном, двинулась к отлучению.
Вот, будет Русь блистать, и лететь, и греметь в победах Петровых, будут везде парить ее орлы и гореть ее молнии, а все, а всегда в русских душах будет проходить тайная дрожь, не то страх, что все равно, как ни великолепна Россия, в чем-то она не жива, не дышит она. В чем-то отлучена. И в нестерпимой тоске Пушкина, и в сумасшествии Гоголя, в смуте Толстого и Достоевского, в самосожжении Мусоргского, в кликушествах Лескова: – «Россия-Рассея, только во Христа крестилась, а во Христа не облеклась», – тоже страшное чуяние какого-то отлучения и предчувствие за то великих испытаний и наказаний. Изнемогающая в цепях и непобедимая боярыня Морозова – живое знамение для всех русских, живых; как забыть, что ее мощная христианская кровь мощно дышит и во всех нас: она нам знамение Руси о имени Господне.
Морозова изнемогала.
Однажды на рассвете она поднялась и, волоча цепь, подошла к темничным дверям. Бледное лицо, с горячими глазами, в космах седых волос, выглянуло сквозь узкое оконце. Боярыня подозвала сторожевого стрельца:
– Есть у тебя отец, мать, живы они или умерли, если живы – помолимся о них, если умерли – помянем их…
Оба перекрестились.
– Умилосердись, раб Христов, – тихо сказала боярыня. – Очень изнемогла я от голода и хочу есть, помилуй мя, дай мне калачика.
– Боюсь, госпожа.
– Ну, хлебца.
– Не смею.
– Ну, мало сухариков.
– Не смею.
– Ну, принеси мне яблочко или огурчиков.
– Не смею.
Пожилой черноволосый стрелец утирал рукавом кафтана лицо: бежали непрошеные слезы.
– Добро, чадо, – сказала ласково и грустно боярыня. – Благословен Бог наш, изволивый тако… Если не можно тебе это, то прошу тебя, сотвори последнюю любовь: убогое тело мое покройте рогожкой и положите меня подле сестры, неразлучно… Вот хочет Господь взять меня от этой жизни, не подобает, чтобы тело в нечистой одежде легло в недрах своея матери-земли… Вымой мне грязную сорочку.