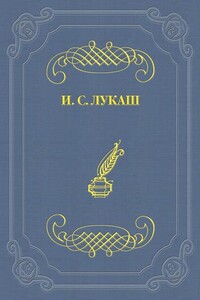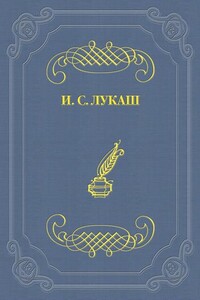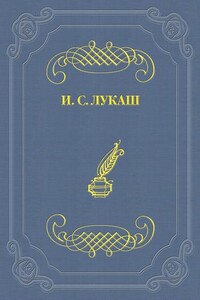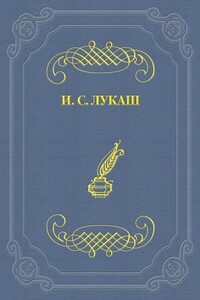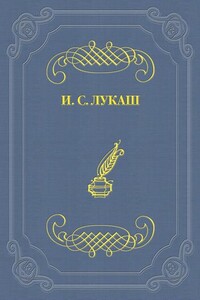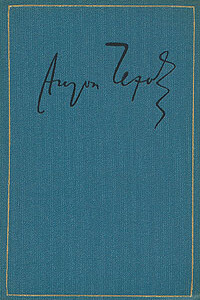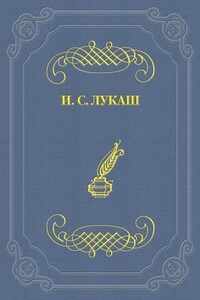Боярыня Морозова | страница 18
– Ты, Федосья, юродивых принимала, Киприана и Федора, их учения держалась, тем прогневала царя.
Боярыня послушала князя, опустила цепь в снег:
– Тленно, мимоходяще все, о чем ты говорил, князь… Сын Божий распят был народом своим, так и мы все от вас мучимы.
На стряску, к дыбе, повели и Морозову. Ее подвесили на ремнях, над огнем она не умолкала, стыдила бояр за мучительство.
За то с полчаса висела она с ремнем, «и руки до жил ремни ей протерли».
Каты сняли боярыню с дыбы, положили рядом с сестрой, нагими спинами в снег, с выкрученными назад руками.
В ногах сестер, в потоптанном снегу, лежала Марья Данилова. Ей клали мерзлую плаху на перси, ее били в пять плетей немилостиво, по хребту и по чреву.
Морозова вынесла свою пытку, но чужой не вынесла. Она зарыдала жалобно, видя текущую кровь инокини, вещее видение всех русских мучительств. И сквозь рыдания сказала наклонившемуся думному дьяку:
– Это ли христианство, чтобы так людей мучить?
Три часа лежали в заслеженном снегу, на Ямском дворе, под рогожами, княгиня с боярыней и в пять плетей забитая инокиня.
В глухое утро на самом снегу каты стали ставить на Болоте сруб, сносить поленья и хворост.
Москва проснулась с вестью: Морозову будут жечь. На Болото потянулись в сивом тумане хмурые глухонемые толпы.
А у царя, с самого света, было на верху думное сидение. Боярство надышало в палате холодным паром, сыростью, на медвежьих шубах и на охабнях оттаивал снег.
На верху все лаяли Морозову. В подобострастии пытали все разгадать волю царя и думали, что его воля раскольщицу сжечь. Один Долгорукий, седой, еще в неоттаявшем инее на соболях, поднялся и стал перечить боярскому лаю, пресек. Бояре начали смолкать, с ворчаньем, а сами все смотрят на лицо царево, как-де он, что-де он, государь.
Алексей Михайлович, грузный, – он уже страдал тогда от тучности, от одышки, от водяной, точно бы налившей ему желтоватой водой крупное лицо, – сидел понурясь и был грустен.
Царь поднялся со вздохом, со стонущим вздохом, и вышел молча.
Сруб на Болоте приказано было разметать.
Царя зашатала снова неумолкаемая распря между совестью человеческой и властью царской. И нет большего свидетельства о полном разладе его с собою, неуверенности во всем, что затеял он с новинами Никона, и доброты его безвольной, и слабости, и усталости, чем краткое посланьице, написанное им в тот день к только что пытанной боярыне:
– Мати праведная Федосья Прокопьевна, вторая ты Екатерина-мученица, дай мне, приличия ради людей, чтобы видели, – не крестись тремя персты, но только руку показав, поднеси на три перста…