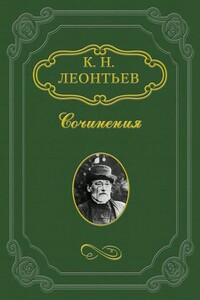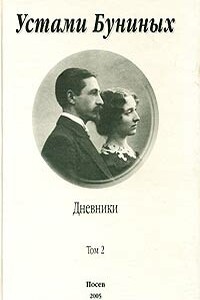Воспоминание об архимандрите Макарии, игумене Русского монастыря св. Пантелеймона на Горе Афонской | страница 8
Я очень хорошо помню, что о компании этой, о страданиях отца Анатолия и о собственных тогдашних молодых чувствах мне во время жизни моей на Афоне рассказывал тот, и поныне здравствующий, малоросс-музыкант, который был в Руссике регентом в <18>70-х годах. Помню также очень хорошо, что я рассказ его слушал несколько рассеянно, но рассеянность моя происходила не от равнодушия и пренебрежения, а, напротив того, от одной весьма серьезной мысли, которая меня во время рассказов этих волновала.
Я очень хорошо помню, что я думал в то время так:
– Ведь все то, о чем он рассказывает, это религиозное движение юношей в провинции происходило в конце <18>40-х годов. Кажется, в том самом <18>48 году, когда вся Европа была в революционном огне и когда в Петербурге в другом кружке русской же молодежи, в кружке Петрашевского, задуман был безбожный и кровавый переворот. После неудачи глупого заговора этого, когда по милости императора Николая заговорщики были не казнены, а только все сосланы в Сибирь, – рассказывали, будто бы эти молодые люди ненавидели не только царскую власть и сословный строй России, но и религию, до того, что приобрели плащаницу {7} и рубили ее на куски; а про Петрашевского говорили знавшие его лично люди, что он нарочно часто проходил мимо тех лавок, где на столиках стояли выставленные для продажи иконы, и нарочно же задевал их длинным воротником шинели, чтобы они падали на землю. Клевета ли это, или правда – не знаю; но так говорили.
Во всяком случае, несколько больше, несколько меньше, а дух был такой у этой столичной молодежи, по имени только русской. Там дворяне, люди тонкого воспитания, люди высшей образованности, там Европа демократическая и безбожная; а здесь, в глуши провинции, – купечество и разночинство молодое; тесный кружок единомысленных идеалистов, которые думают не о земном спасении русского общества и тем более не о «человечестве» каком-то, а только о загробном спасении своей души. Они тоже заговорщики; они собираются, толкуют, шепчутся, но о чем? Не о том, как устроить общество и жизнь, а как уйти от них. И что же? Кто больше стал полезен тому же обществу, той же русской жизни: те ли разрушители по любви к уравненному и опошленному «человечеству», или эти созидатели русских религиозных общин на чуждом по быту Востоке, созидатели «селений Господа сил», по любви к своей собственной душе? И вот и я, смолоду воспитанник той же столь европейской, столь не самобытной по духу русской литературы <18>40-х годов, сам теперь, под сорок лет, считаю за счастье прийти поучиться не только вере, но и разуму у этих тульских и старо-оскольких каких-нибудь купцов на далеком Афоне! Учусь у них и умнею под старость, скорблю и блаженствую, каюсь и радуюсь и за честь себе считаю их дружбу, их участие; за дар Божий – их наставления!