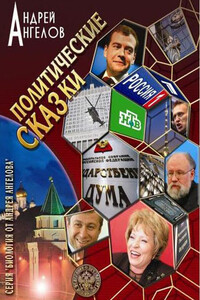О повестях и рассказах гг. Горького и Чехова | страница 5
Мимоходом сказать, эти тирады ясно говорят, что диалогу писателя и незнакомца в «Читателе» нельзя придавать значение вполне личной исповеди автора. В чем, в чем, а в отсутствии «грез, красивых (а иногда и некрасивых) вымыслов, мечты и странностей», «образов, которых нет в жизни», г. Горький упрекнуть себя не может. И точно так же не может он принять на свой счет упреков незнакомца в пристрастии к описанию «будничных чувств, будничных людей» и к «мусору фотографических снимков с их жизни». Какие уж это будничные люди эти Изергили, Зобары, Радды, Соколы, да и все эти Челкаши, Коноваловы и прочие босяки! Упреки незнакомца, очевидно, направлены по адресу тех бесчисленных авторов повестей и рассказов, которые направляют свои фотографические аппараты, подобно офицеру-любителю в «Трех сестрах», на что попало и во главе которых, возвышаясь над ними своим исключительным дарованием, еще недавно стоял г. Чехов…
Итак, г. Горький и г. Чехов, несмотря на резкое различие своих писательских обликов, сошлись не только в мысли, а отчасти и в выражении ее на одном пункте: на необходимости «общей идеи» или «стройной и ясной мысли, охватывающей все явления», или «того, что называется Богом живого человека». Пусть г. Чехов выражает тоску по этой «общей идее» не от своего лица, а от лица старого профессора, как и г. Горький говорит не от себя, а устами безымянного молодого писателя, но оба они понимают и эту необходимость, и эту тоску. Эта-то общая им мысль и выделяет их из сонма наших «рассказчиков». Она же отчасти объединяет их мелкие рассказы в некоторое целое, а отчасти побуждает их в последнее время расширить рамки очерка и рассказа, дабы охватить больший круг явлений жизни вместо тех осколков ее, с которых они начали. Г. Чехов долго довольствовался беспорядочным воспроизведением этих осколков, то с величайшею точностью фотографируя их, то шаржируя их веселым юмором. Но этот период творчества г. Чехова уже миновал, и мне жаль, что мой уважаемый сотрудник В. Г. Подарский не заметил этого {5} . Г. Горький с первых же своих литературных шагов, уже самою односторонностью в выборе своих тем и сюжетов и приподнятостью своего писательского темперамента был гарантирован от безразлично-фотографического отношения к действительности: слишком ярки, слишком огромны в добре и зле носящиеся перед ним образы, чтобы такое отношение к ним было возможно. В противоположность г. Чехову тяготение к «общей идее» в нем жило всегда, и временами ему, может быть, казалось и кажется, что он даже владеет ею или что она овладела им. В действительности же Вогюе прав, говоря, что не только трудно разобраться в его «философии», но что он и сам в ней не разбирается.