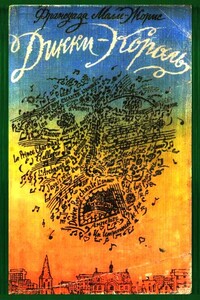Бумажный домик | страница 139
Надо, чтобы невинность проливала слезы, чтобы в ней была рана, и тогда она станет чистотой. Но мы безутешно оплакиваем ее потерю и не устаем ею восхищаться.
Я написала две главы, которые противоречат друг другу. Одна называется «Здесь спать нельзя». Другая — «Мы живем, чтобы петь».
Здесь спать нельзя (отрывок из моего дневника)
Сегодня утром я чувствую, что смогу хорошо поработать. По-настоящему. Я сумела вырваться из дома, голова у меня почти свежая, и нервы почти в порядке. В меня никто не вцепился («дай пять франков на взносы, двадцать франков на обед»), Венсан еще не потерял самописку, спортивный костюм Полины лежит на месте, и я на этот раз без особого труда отогнала неприятные мысли: о письмах, на которые до сих пор не ответила, о неоплаченных счетах, о зубном враче, о том, что Альберту надо отвести в консерваторию, и снять копию с метрики Венсана, и успею ли я домой к обеду, и что приготовить на ужин, и, главное, не забыть позвонить в журнал, которому в минуту душевной слабости и мигрени я обещала статью о Шопене или о покорении Эвереста… На этот раз мне удалось сбежать. Спрут, затаившийся в темном углу моей квартиры и раскинувший по ней бесчисленные щупальца — тысячи маленьких, но изводящих, парализующих уколов совести, так и не проснулся, и вот я на улице, еще темно, прохладный воздух бодрит, и я благословляю семь часов утра, мое любимое время, время, которое принадлежит мне. Я покупаю сигареты, обмениваюсь несколькими словами с продавщицей газет (с наигранной веселостью беглого каторжника) и первой вхожу в кафе, которое еще не кончили убирать. Горы опилок, божественный запах жавелевой воды. Утро.
Иногда пол моет старый араб в баскском берете, иногда молодой краснолицый нормандец, но чаще всего пожилая, бесцветная старушка, из тех, что всегда ходят в бесформенных пальто, повязав голову серым или коричневым платком, и никогда не расстаются с хозяйственными сумками, набитыми загадочными свертками в газетной бумаге. Да и сами они какие-то бесформенные, вечно согнуты в три погибели, окруженные ведрами с грязной водой, мокрыми половыми тряпками, пресными запахами моющих средств… Бесформенное, бесцветное племя, словно туман, расползается по земле, и как ему, увязшему в своем зыбком, застойном горе, вернуть достоинство, четкие очертания?
Я задумываюсь. Есть среди этих старушек такие, что работают от случая к случаю: под кофточку, вязанную косичками, они подкладывают газеты — для тепла, иногда ночуют на улице и пьют по утрам ледяное пиво. Есть и другие: они все еще проявляют трогательную заботу о приличиях, и у них даже случаются неожиданные приливы кокетства — получив в подарок старую шляпку, они украшают ее атласным бантиком, который много лет пролежал на дне картонного ящика. Я прямо вижу эту картину: закончив работу в кафе или в конторе, они идут убирать чью-нибудь квартиру, хозяйка дарит им старую шляпку, и тут они спрашивают себя: почему бы и нет? — и подсмеиваются над собой, немножко смущаются, вспоминают молодость, когда они были почти хорошенькими и шили себе выходные платья. А теперь «один маленький штришок» (этот штришок — чуть подправить, подкоротить, украсить милой оборочкой, бантиком — для женщины означает надежду), и вот они нашли атласный бантик, спороли с изношенного платья, со старого пальто, но, взглянув в зеркало… Поспешно нахлобучив шляпку на голову, на прошлогоднюю химическую завивку, они хватают свою кошелку, коричневый шарф — и в дорогу. В конце концов, кто его увидит, этот маленький бантик? Они оставят шляпку на вешалке. Да и видна-то всего только их спина.