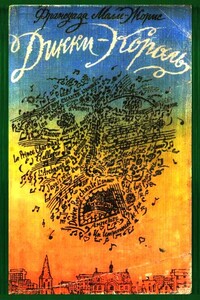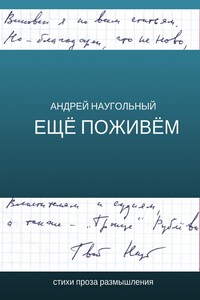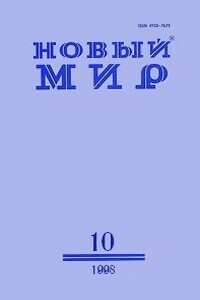Бумажный домик | страница 137
— Не лучше. А проще. И правильнее.
А потом, лет в пятнадцать, она откажется ходить в церковь, потому что не захочет того, что проще, и будет читать «Бхагавадгиту» или еще что-нибудь заумное и темное в том же роде. И все же лучше так, чем дверь, закрытая на замок: духовная элита кажется мне еще более отвратительной, чем любая социальная форма элитарности. Элита Безупречных, которые отвергают разведенных, евреев и иностранцев. Элита Чистых (лексика катаров сама просится на бумагу), которые опасаются сомнительных знакомств, сомнительных книг, бактерий, заполонивших весь свет, и нечистот. Она так хрупка и неприступна, невинность! Фарфоровая пастушка, изящная безделица, камушки редкой красоты. Их любят, ими любуются, наконец, их, столь безупречных, жалеют.
Мадам Гюйон[16] жила в невинности. Она была, как справедливо заметил отец Конье, ее биограф, «одаренной натурой». Любила детей, животных, сирых и обездоленных, презирала богатство, честолюбие, осторожность. Ее оклеветали, бросили в тюрьму — она все выдержала, не дрогнув. Имя ее прославилось, и она была этому рада, ибо страстным ее желанием было наставлять души на путь истинный. Ее обрекли на молчание — она подчинилась без горечи, ибо, если Бог хотел, чтобы ее жизнь не приносила пользы, она принимала свою бесполезность. Она отдала свою жизнь, свое дело, свое честное имя, как отдают старую игрушку первому, кто попросит. Нельзя ее читать сколько-нибудь вдумчиво и не полюбить; иногда в ней заметно сходство с индийскими мудрецами, иногда с Терезой из Лизье, которая под навешанными на нее бумажными розами скрывает такую глубокую, такую мучительную теологию.
Однако мадам Гюйон не была святой. Она жила в невинности — этим все сказано. В этом «всё» — опасная тайна.
Когда ее свекровь, особа малоприятная, попросила помолиться за успех какой-то денежной аферы, в которой была очень заинтересована, мадам Гюйон ответила ей невинно: «За такие дела я молиться не умею». В своей невинности она оскорбила грешника. Когда ее муж (этому старику, изуродованному подагрой, она досталась девочкой шестнадцати лет, красивой, умной, благородной) не давал ей молиться, потому что в молитве она от него отдалялась, тогда она плакала, она не понимала и в своей невинности оскорбляла это извращенное, искаженное, изуродованное чувство, которое люди зовут любовью. И до смертного часа своего сварливого, скупого, ревнивого супруга она не переставала удивляться мучениям, которые он ей причинял, ибо, как писала она в своей невинности, «мне кажется, он меня страстно любил».