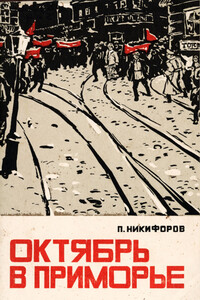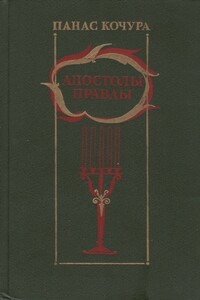Горький хлеб | страница 19
— А чего толком сказывать. Мало ли горя повсюду? Скиталась по Руси с отцом, матерью. Доброго боярина да десятину землицы хлебородной старики искали. Да где уж там… Так по весне и примерли с голоду да мору, а девка одинешенька осталась. Нашлись добрые люди и ко мне привели. Нам со старухой подспорье нужно, немощь берет.
— Кто господин ее был?
— Сказывала, ярославского дворянина. Поместье его обнищало, запустело. Мужиков и холопов на волю господин отпустил. Вот и скитались. А эту Василисой кличут.
— Поди, беглянку укрываешь, старик? ‑ недоверчиво проворчал пятидесятник.
— Упаси бог, Мамон Ерофеич. Сиротку пригрел.
— Так ли твой дед речет, девонька? ‑ выкрикнул Мамон.
Василиса вышла из горенки в червленом убрусе, слегка поклонилась пятидесятнику.
— Доподлинно так, батюшка.
Покуда Мамон вел разговоры с бортником, Матрена занялась бродягой: поила медовым отваром, целебной настойкой из диких лесных и болотных трав, тихо бормотала заклинания.
— А ну, погодь, старуха. Мужику не тем силы крепить надо. На‑ко, родимый, для сугреву, ‑ вмешался Матвей и, приподняв бродягу, подал ему полный ковш бражного меду.
Пахом трясущимися руками принял посудину и долго пил, обливая рыжую бороду теплой тягучей медовухой. Пришел в себя, свесил с лавки ноги, окинул мутным взглядом избу, людей и хрипло выдавил:
— Топерь хоть бы корочку, Христа ради. В брюхе урчит, отощал, хрещеные.
— Поешь, поешь, батюшка. Эк тебя скрючило, лица нет, ‑ тормошилась Матрена, подвигая бродяге краюху хлеба и горшок щей.
Пахом ел жадно, торопливо. Восковое лицо его, иссеченное шрамами, заметно ожило, заиграло слабым румянцем. Закончив трапезу, бродяга облизал широкую деревянную ложку, щепотью сгреб крошки со стола, бросил в рот, перекрестился, поднялся на ноги, ступил на середину избы, земно поклонился.
— Вовек не забуду, православные. От смерти отвели.
— Ну что ты, что ты, осподь с тобой. Чать не в церкви поклоны бить. Приляг на лавку да вздремни, всю хворь и снимет, ‑ проговорил Матвей.
Все это время Мамон почему‑то молчал и пристально вглядывался в новопришельца, морщил лоб, скреб пятерней бороду, силясь что‑то припомнить. Наконец он подошел к лавке, на которой растянулся бродяга, и спросил:
— Далеко ли путь держишь, борода?
Пахом, услышав голос Мамона, приподнял голову и вдруг весь внутренне содрогнулся, широко раскрыв глаза на дружинника. Однако тотчас смежил веки и молвил спокойно:
— Путь мой был долгий, а сказывать мочи нет. Прости, человече, сосну я.