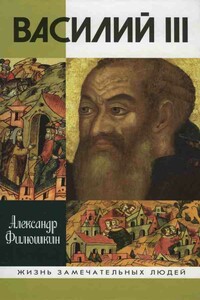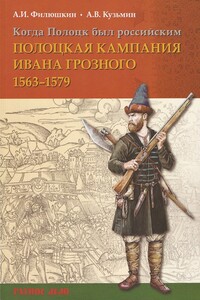Изобретение империи: языки и практики | страница 26
Возвращаясь к Грановитой палате, следует отметить, что наименее почетной в зале оказывалась вовсе не левая сторона от трона, а так называемое окольничье место, или лавка, располагавшаяся на западе, то есть у стены, находившейся напротив царского трона. Вероятно, в данном случае определенное значение имел сам факт удаленности от места расположения царя. Впрочем, как кажется, это не единственный аспект, определявший наименьший приоритет этой части зала. Обращает на себя внимание и то, что непосредственно над «окольничьим местом» находится решетчатое окно Тайника, небольшого помещения за западной (примыкавшей к Святым сеням) стеной палаты, предназначавшегося для цариц, царевн и юных царевичей. Именно так они получали возможность наблюдать за происходившими здесь церемониями, не будучи при этом замеченными. Отметим, что появление окна Тайника именно в этом месте зала вполне соответствовало традиционным нормам устройства жилища, где угол, располагавшийся на одной линии с красным и ориентированный, соответственно, на запад, считался «бабьим». Совершенно очевидно, таким образом, что «окольничье место» оказывалось не только самым удаленным от церемониального центра (царский трон), но опосредованно связанным с наименее статусной (женской) частью пространства.
Между прочим, немаловажно отметить и еще один значимый факт, а именно то, что «бабий» угол являлся также и печным, а печь, в свою очередь, была важным женским символом. В пространстве Грановитой палаты печь отсутствовала, что указывает на смену пространственного кода как такового, точнее, на декларативное отсутствие здесь женского пространства, которого в государственно-представительском помещении этого периода с формальной точки зрения не было и быть не могло.
Следует также отметить семантику окна, активно востребованную в организации пространства Грановитой палаты. Как указывалось выше, находившийся на престоле царь был обращен спиной на восток, а значит, в семантическом отношении соотносился с дневным светилом. Пространственная символика при этом, несомненно, смыкалась с общей трактовкой образа государя, принятой в конце XVII века. Вполне артикулированное и универсальное сравнение российского монарха с солнцем появляется в это время в текстах дипломатических представителей в России [134] и, конечно, в придворной литературе, особенно в панегириках [135] . В самом же пространстве зала этот аспект был усилен за счет принятого здесь церемониального движения (на юг, а затем на восток), представлявшего собой движение к солнцу [136] . К тому же центральный столб зала скрывал фигуру царя, и послы могли увидеть монарха, только пройдя первую часть своего пути внутри палаты, что создавало определенный элемент неожиданности. Немаловажным оказывался и выбор времени проведения церемоний. Ведь во время приемов конца XVII века, проходивших здесь, как правило, утром, межоконное расположение царского трона именно в этой точке Грановитой палаты могло вполне практическим образом иллюстрировать такое сравнение, поскольку сидевший на троне царь оказывался спиной к источнику света, а послы, напротив, могли быть ослеплены ярким светом из окон. Сама фигура царя при этом должна была представляться нечеткой и даже несколько размытой.