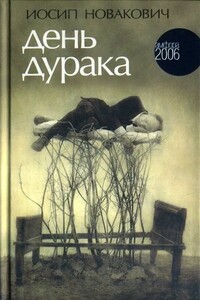Недоподлинная жизнь Сергея Набокова | страница 24
Отец откашлялся, помолчал и страдальческим тоном произнес:
— Я говорю о твоем дяде Руке.
— Но в дяде Руке нет ничего дурного, — возразил я.
— Сережа. Твой дядя Рука, может быть, и очарователен, — сказать по правде, он полон своеобразного обаяния, — боюсь, однако, что аи fond[15] он человек одинокий и глубоко несчастный. Его нелепый переход в католичество — это, увы, не более чем последняя из попыток искупить те греховные наслаждения, к которым временами толкает его плоть. Я никому не пожелал бы жизни такой же мучительной, как жизнь твоего дяди. Или, уж если на то пошло, моего брата Константина. Наблюдения за людьми, обреченными на подобную жизнь, довольно, пожалуй, для того, чтобы усомниться в существовании благого божества. И, позволив этой склонности беспрепятственно развиваться в моем сыне, я проявил бы такую же преступную халатность в исполнении долга любви к нему, как если бы закрыл глаза, обнаружив у него страшные симптомы тифа или туберкулеза.
Помнишь горькую строчку Пушкина: «Любовью шутит сатана»?[16] Если он и с тобой пытается сыграть такую злую шутку, ни в коем случае не следует поддаваться ему. Воля человека способна найти средства защиты от какого угодно множества унижений. И потому я обратился к моему близкому другу доктору Бехетеву, который, вооружившись новейшими научными знаниями, попробует — нет, давай скажем так: сумеет — излечить тебя. Я прошу, чтобы ты, как человек чести, как мой любимый сын, принял его помощь. Если не ради меня, то ради твоей матери. Дневник же твой я предпочел бы оставить пока у себя. Надеюсь, в будущем тебе не представится случая повторить такую ошибку. У тебя есть какие-либо вопросы?
— Никаких, — ответил я.
Отец в последний раз пролистал мой оскверненный дневник, а затем убрал его в ящик письменного стола, в котором держал также, по словам пытливого Володи, заряженный револьвер «Браунинг». Понимал ли отец, что, конфискуя мои жалкие признания, он ведет себя, как человек, который, проснувшись в охваченной огнем постели, первым делом выкидывает в ближайшее окно породившую пожар папиросу? Теперь, задним числом, я думаю, что оба мы прекрасно сознавали полную тщетность этого жеста.
Читателям побрезгливее захочется, быть может, пропустить следующий короткий пассаж; я бы и сам обошелся без него, если бы на ухо мне не зашептал вдруг голос Жана Кокто, моего великого и мудрого друга парижской поры: «Ты должен рассказать им все, топ cher!