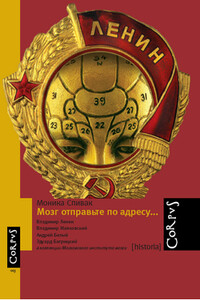, а
иглы сосен: иглы – след
сосен . Не
шаги , а
шелест шагов: шелест – след
шагов . Но (уже за пределами генетивного оборота) и
шаги – след шагающего, метонимия идущего человека;
шаги , таким образом, – метонимия метонимии, след следа.
Треуголка и
том Парни – тоже след
смуглого отрока , почти как в хрестоматийном примере про портфель, оставленный в аудитории; при этом, если в обороте
его треуголка генетив
его относится только к юному Пушкину, то метонимический генетивный оборот
том Парни указывает еще на одну связь:
том Парни – след не только Пушкина, но и самого Парни, тут даже двойная метонимия:
Парни – *
сочинения Парни – том *
(с сочинениями) Парни . Создается образ пространства, насыщенного следами и резонансами, и генетивный оборот метонимического типа напрямую участвует в создании этого смысла (в стихотворении есть и еще один, на этот раз предложный генетив:
У озерных грустил берегов ). Если допустить для ранней Ахматовой подобную изысканную поэтическую технику, то в этом восьмистишии можно предположить еще один потайной слой, связанный на этот раз с использованием анаграмм.
Гу сто ,
к о лк о ,
тре уг о лка , отчасти
см угл ый и
г р у сти л могут анаграммировать
Кагул ; с несколько меньшей степенью вероятности
гру ст и л ,
ст о лет ие, у ст и ла ю т и некоторые другие звукосочетания могут анаграммировать слово
стела . Тогда можно допустить в стихотворении анаграмматический намек на
Кагульский памятник (
кагульскую стелу ) в Екатерининском парке Царского Села как на возможное «место действия» текста. Указание на
сосны , вкупе с упоминанием их
густой хвои, тоже имело бы в таком случае подтверждающее значение, ср. в «Воспоминаниях в Царском Селе» Пушкина:
В тени густой угрюмых сосен /
Воздвигся памятник простой. /
О, сколь он для тебя, кагульский брег, поносен! /
И славен родине драгой! 3. Поэтика «отсутствующих звукосмысловых посредников».
По щедрому приглашению Татьяны Владимировны Цивьян автор этих строк участвовал в проводившейся в Москве небольшой конференции, посвященной роли звука в тексте и звучащему тексту вообще. Темой сообщения были особые контексты, в которых можно предположить связь между двумя словами ( а и b ), основанную на существовании неупотребленного в данном контексте слова с , близкого а по звуку, а b – по смыслу (или, разумеется, наоборот). В определенных изводах такая модель может сближаться с каламбуром или «сильной» анаграммой (подразумевающей отсутствие в тексте анаграммируемого слова), но в целом она не смешивается с ними и остается хотя и редким, но узнаваемым явлением в тексте (заметка, посвященная некоторым из нижеприведенных примеров, готовилась для «Philologica»; замечания, высказанные в письме И.А. Пильщикова и покойного М.И. Шапира, стали для автора важным подспорьем; публикация более полной коллекции контекстов и более полного к ним комментария предполагается).