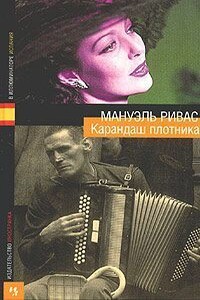Мудрецы и поэты | страница 14
Олежка сидит, положив подбородок на колени. К нему пристают сарайные мухи, но он их не замечает, только подергивает то плечом, то коленом. Он и козла почти не замечает. Он переживает свое горе, сосредоточенный, будто перерабатывает его во что-то. А может быть, и вправду перерабатывает? От горя и сосредоточенности он то и дело жмурит то один, то другой глаз, подтягивая к нему замурзанную щеку, и мир ерзает то влево, то вправо. Возле глаза каждый раз возникают морщинки, вроде тех, что у завязочки воздушного шарика.
Долго-долго он мог бы просидеть так, шепча что-то припухшими губами.
Но тут появился Колька, весь в оспинах от Димасова дождя, – вывернулся из-за угла по-деловому. Хотя Олежка к этому времени уже подсох, Колька мигом оценил обстановку: и Олежкино скромненькое исчезновение, и грязные разводы, и подбородок на коленях, и все еще горестно припухшие шепчущие губы.
– У, нюня! – Кольбен просто-таки размазал его презрением. Но как-то наспех.
– Я палец порезал, – защищался Олежка и протягивал Кольбену палец, на котором уже и желобок бесследно затянулся, как на воздушном шарике.
Он мог бы напомнить Кольбену, что тот сам только что ревел, как последняя рева-корова, но, во-первых, Кольбеновы вины он узнавал только от бабушки, а во-вторых, он понимал, что рев Кольбена был оружием, а его слезы – слабостью. Да, стыд и срам: он переживает из-за чужого горя больше, чем Кольбен из-за своего. И он тыкал Кольбену фарфоровый осколок:
– Вот, я на него наступил.
– Рева-корова, – отмел весь этот лепет Кольбен. – Рева-корова, дай молока, сколько стоит, три пятака. – Однако пропел он, хотя и с большим зарядом презрения, но тоже как-то наспех – непохоже на него. Олежка сейчас нужен ему для другого.
– Я тебе угощенье принес, – распорядился он. – Открой рот – закрой глаза.
– Ты сначала скажи, какое, – заранее зная, что это бесполезно, попробовал поторговаться Олежка.
– Закрой, тогда узнаешь.
Олежка, конечно, сильно подозревал, что готовится какая-то каверза, но ведь если не закрыть глаза, то так и не узнаешь, какая именно. И потом, вдруг Кольбен на этот, тысяча первый, раз отступит от своих прежних правил? Олежка раскрыл как-то неожиданно нежный среди грязнущих щек рот, в котором вздрагивал от любопытства язык, розовый в точечках, как клубничина. Веки его с вязью прожилок вздрагивали от усилия держать их закрытыми. Мир стал пустым и оранжевым.
Потом Олежка губами почувствовал Кольбеновы пальцы – и что-то маленькое закрутилось у него во рту, защекотало, затыкалось в щеки, в горло. «Ккк, ккк», – сделал Олежка горлом, и то, щекотящее, вылетело, исчезло. Муха, догадался Олежка.