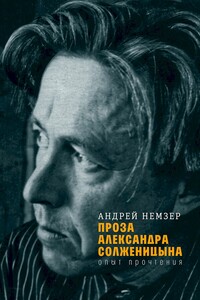Дневник читателя. Русская литература в 2007 году | страница 64
Лежат за твоей спиной!
Забудь эту чушь и ересь,
Забудь этот вздор, солдат,
Не варварский и не верный,
А просто трусливый взгляд!
Да, давно вошедшая в пословицы сентенция из «Писем римскому другу» вызывает у Кибирова приступ ярости, но ярость эта адресована все же не Бродскому, а тем, кто превратил отчаянный стон поэта в соблазнительный слоган уютного соглашательства, глубоко Бродскому чуждого. Кибиров завершает «Новобранца» отсылкой к измызганной пошляками, но не утратившей спасительной силы пушкинской строке:
Не смей же косить от службы!
Шестая поет труба.
И там, за спиной, не руины —
Отеческие гроба!
Так разводятся «стойкость» и «стоицизм», по ведомству которого можно – с натяжками – провести Хаусмана и Бродского, но не Пушкина.
Был ли АСП стоиком?
Хотелось бы верить, что нет.
Хоть аргументы действительно веские.
Но уж звуки-то, музыка-то
Больно веселая…
И музыка эта трансформирует даже самые «стоическообразные» пьесы, в которых вдруг, вопреки адамантовой логике, вспыхивают вопиюще несуразные мотивы – так в «Стансах» («Брожу ли я вдоль улиц шумных…») возникает тема «милого предела», которая через несколько лет превратит «Стансы» во «…Вновь я посетил…». Да, «стойкость» и «стоицизм» суть материи разные, но музыка, если это музыка, всегда одна, и счастлив поэт, расслышавший самое что ни на есть свое, насущно здесь и сейчас нужное в, казалось бы, «чужих» мелодиях.
Так и получилось у Кибирова, в должный миг открывшего книгу Хаусмана, вжившегося в странный, далекий, иногда едва ли не враждебный, но почему-то все равно родной мир давно ушедшего поэта, почувствовавшего, что боль, тревога и нежность остаются болью, тревогой и нежностью в любых «контекстах», и сложившего еще одну «чужую песню». По-моему, чарующе светлую – наперекор «источнику» (но звуки-то взяты оттуда!) и отчетливо печальному (а разве бывают другие?) сквозному сюжету.
На широких и манящих – так и должно быть – полях «A Shropshirе lad» Кибиров написал свою книгу. О щемящей тоске. Об отвращении к небытию и, увы, бытию. О соблазне капитуляции. О холоде одиночества и жаре «общества». О несчастной любви, которая дарит счастье. О великих правах жизни, наделяющих нас надеждой.
Полвека уже, пять седьмых пути
Я худо-бедно сумел пройти.
Но снова черемуха – вот те раз! —
Слезит и мозолит усталый глаз…
…
Ах, этот черемуховый холодок,
Он лжив, как прежде, но в нем намек
На те места, куда мне идти
Осталось всего две седьмых пути.
Но ведь при крепком сложении можно и дольше.