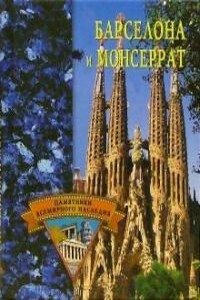Афина Паллада | страница 34
Поэт, жуя чурек, подошел к Митьке и повесил на широкое казацкое плечо драгоценную шашку.
— Носи на здоровье. Поминай Михаила Юрьева.
Митька только рот раскрыл.
— Премного благодарны, ваше благородие! — загудели старики. — За что такая милость?
Павло икал от волнения, примериваясь взглядом к Митьке.
— Потом… потом скажу! Спасибо, братцы, за хлеб-соль и спасибо за песни!..
Всадник мчался по горной долине против пустынного ветра, покачиваясь в упоительном беге.
Краснели кусты на меловых склонах. Вороны, как мельницы, махали крыльями над старинными могильниками. И потягивались на солнце рыжие львы пустынных скал.
Новые бугры, перелески и родники вставали на пути, как новые города, страны, моря, над которыми проносит его бессмертная богиня мудрости в сверкающем шлеме.
Казаки долго смотрели вслед и еще не знали, какой чудесный клинок увозил их гость из станицы.
ОСЕННЯЯ НОЧЬ
Ночь на дворе. Тускло коптят фонари. Шумят старые деревья.
Он торопит кучера. Скорее, скорее — к новой жизни, в дальней обители. На плечах мужицкий армяк, на ногах юфтевые сапоги, смазанные с вечера дегтем.
Кусок хлеба зачерствел в столе под рукописью. Хлеб он спрятал два дня назад, замыслив побег от мира. Впрочем, побег он замыслил лет пятьдесят назад, чуть ли не в дни женитьбы.
Три рубля есть у него. Он отдаст их старшине как мирское и суетное. Поедет в вагоне второго класса, как едет народ. В братстве наденет белую славянскую рубаху; забудет семью, двор, лицемерие, рабство, насилие над людьми и животными; может быть, примет новое имя, обновится; будет честно в свои восемьдесят два года ходить за деревянным плугом, корчевать вековые пни, есть ржаной хлеб, запивая ключевой водой.
Писал ли он о том, что нет напитка вкуснее простой воды? Не знает. Уже давно он читает свои страницы как незнакомые, написанные другим, тщеславным и искусственным человеком.
Однообразие пагубно и для самого вкусного; поэтому иногда будет пить отвар из лесных трав, лакомиться диким медом, шиповником и березовым соком.
Но главное рожь, гречиха, соль и вода.
Он оставит себе лишь одно светское — поэзию человека, с которым в молодости мечтал сравняться, и даже стать выше, и давно понял, что это невозможно.
Да, больше ничего не возьмет он от мира — ни злата, ни булата, ни славы, ни замыслов.
И поэзию-то возьмет не вещественно, не в книгах, а в душе; и когда вместе со всеми получит урок на лесной делянке срубить столько-то дерев, мысленно, чтобы не слыхала честная братия, в коротких перерывах упьется: