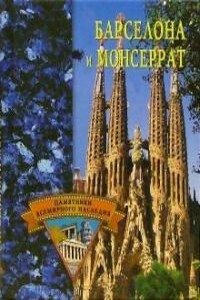Афина Паллада | страница 30
В ворота редута вошло, поднимая багряную от заката пыль, стадо коров. «Манька! Зорька! Ланка!» — раздались призывные крики казачек, и вскоре весь редут наполнился звоном молочных струй, бьющих в ведра.
Несколько подростков гордо сидели на конях — повезут в баклагах парного молока братьям-пикетчикам. Долго ж тянется караульная ночь. Звезды осыпают снежные космы двуглавого гиганта. Наползают туманы. С опаской выглядывает из-за утеса луна, на которой господь запечатлел картину: Каин убивает Авеля. Враждебно плеснет волна. Вскрикнет лунь. Что-то побежит-зашуршит по кустам… До редута верст пять. Вся надежда на жену-винтовочку, на сестрицу-шашку да на родимого братца-коня.
В редуте помолились богу и собрались у костров. В ночную синь вместе с искрами полетели казачьи песни, сложенные в хивинских походах, в караулах Ермолова, в битвах с турецкими янычарами и ландскнехтами прусского короля Фридриха Великого.
Поэт легко запоминал дивные строчки. Под хмельком, сгоряча даже придумал план: выйти из службы, перестать сочинительствовать и пуститься странничать по терским городкам и станицам, записывая песни. Он будет их собирать, как золотые монеты со стершимися профилями царей, знамен, орлов. Пусть стерлись изображения истлевших в курганах повелителей и рубчики безвестных чеканщиков — золото звенит и пламенеет даже во тьме.
Его червонцы теснили ему бок. Казаки все при шашках, но это простые железные клинки с деревянными рукоятями. Худой, небритый, в мятой фуражке Лермонтов подсел к Павлу Татаринову, помощнику атамана, и спросил о гирле.
Павло, высокий, узкоплечий, рябовато-бледный казак с бегающими разбойными глазками, услужливо подал гостю подрумяненное ребро, отхватив его от туши острым татарским ножиком. Незаметно скрылся и через минуту принес замотанную в масленое сукно шашку. Лермонтов сразу узнал ее по клейму и отрицательно махнул головой — не эта.
— Гурда и есть! С хана снятая! Истинный бог! — крестился раскольник запрещенным двоеперстием. В медной бороде его таился злой блеск ранней седины.
— Ты бога не поминай, Пашка! — осуждающе сказал атаман.
Лермонтов смеялся.
Как мухи на мед, липли казаки к офицерскому коню, подкидывая ему свежей отавы.
Хмель ударил в голову поэта:
— Коня отдам и пять червонцев!
Павло икнул от волнения и трусливо побежал в темноту.
Принес великолепную дагестанскую шашку. По черной стали серебрились стихи Корана.
Казак обиженно выпучил глаза — гость снова отрицал булат, послушав долгий звон и полюбовавшись письменами. Старики уважительно смотрели на юного офицера и предлагали ему свои ковшики.