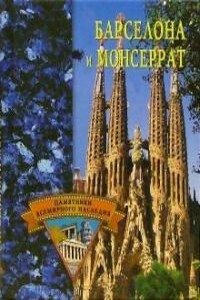Афина Паллада | страница 22
Чтобы поддерживать бег крови в теле, он дает уроки прелестным мальчикам в кардинальской семье. Мальчики умны, опрятны, бойки. Но сердце Франсуа болело. Почему он должен отдавать лучшие миги краткой жизни этим баловням, которым с рождения уготована красная мантия первосвященников? Разве у него нет во Франции дочери, тайно воспитываемой в глухом женском монастыре? И разве французские крестьяне, торговцы, моряки и ученые не его дети?
Уже долго бродит он по прекрасным, но чужим, чужим странам. С детства его тянуло в иные края. Мечта свершилась. Он увидел мраморные обломки мира, скрытого пеплом лет и церковной казуистики, мира веселого, солнечного, философского. Но тогда почему в этот прозрачный, синий сентябрьский денек слезы подступают к глазам? Почему он молчит уже несколько недель?
Это не молчание. Это стиснутые зубы. Если разжать их, прорвется громкий плач. Ему не хватает туренской гавани, виноградников на меловых склонах, химер и чудищ Нотр-Дама, родной речи крестьян, философов, путешественников, гуманистов — в латах, рясе или докторской шапочке. Его давит боль вечного расставания с землей. И сквозь стиснутые зубы просачиваются слезы, как пробиваются родники сквозь гранитные челюсти скал.
И он быстро собирает свои книги в дорожный сундук, радуясь отъезду на родину. Но это лишь самообман. Он никуда еще не едет. Он не прошел еще всех дорог. Его ободряет бронзовый поэт, живший и умерший на чужбине.
Он спокоен уже, ученик невозмутимых греческих мыслителей, прямо смотревших в глаза жизни и смерти. Он словно и впрямь достиг родной гавани. И чтобы запечатлеть великое возвращение после столь длительного и каменистого пути, он записывает в особой тетради — как всегда, длинно, фантастически, легко выдумывая новые страны, моря, острова:
«И вот, пройдя через страну, полную всяческих утех, приятную страну… такую же цветущую, ясную и прелестную, как Турень, — мы увидели, наконец, в гавани свои корабли».
Это конец. Печальный, как все концы. Но прежде чем заплакать, человек должен вволю насмеяться здоровым, омолаживающим, раблеанским смехом.
Он смеялся и пил из неиссякаемой бочки. Смеялся задорно, смело, заразительно. Смеялся, потому что уже пережил печаль расставания, конец концов. Подступившая последняя печаль утонула в громовом хохоте, звоне кастрюль и сковород, полных дичи, утонула в жирных шутках и великой мудрости тех, кто охраняет свое вино, подобно брату Жану, от посягателей на мировое господство, будь то Христос или мелкопоместный князек Пикрошоль…