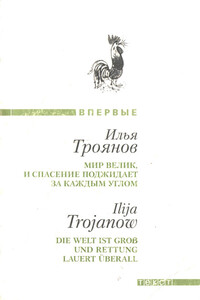Грех | страница 22
Но я не иду вниз. Сижу в своей норе. Лежу на кровати и читаю старую газету. Закрываю глаза и размышляю о том, остались ли у меня какие-нибудь желания. Желаний нет. Кроме одного — чтобы сюда никто не ввалился. Хочу так лежать. Не хочу ни в Америку, ни на Луну. И в оперу я идти не хочу и не хочу болтать со знакомыми в кафе, не хочу стать императором или киноактером. Ничего не хочу. Мне настолько хорошо, что я даже не чувствую своего существования. Теперь мне не надо за него бороться. У меня есть квартира, еда, одежда, кровать, печь, дрова за печью.
Под вечер я вышел за своими сосисками. Мчался с ними домой, как пес, который, схватив кусок мяса, убегает от мясника. Я по-прежнему, раздобыв еду, ощущаю в душе огромную радость. Я по-прежнему все время боюсь, что кончатся продукты, рухнет дом. Возвращаясь домой из какой-нибудь поездки, я со страхом ожидаю увидеть стену с выжженными окнами или груду развалин вперемешку с покореженными трубами. Застав дом на прежнем месте и снова, после недельной отлучки, отпирая дверь своей комнаты, я испытываю приятное удивление. Неизменно радуюсь. Ключ. А к нему еще и дом!
Я лезу в шкаф, чтобы в который раз проверить содержимое картонной коробки, испещренной черными надписями на английском языке. Вот уже второй день я раскладываю на столе и на постели разнообразные пачки, пакеты и банки. Здесь есть даже жевательная резинка.
Моим ночным размышлениям грош цена. Толку от них ноль. При свете дня они гаснут вместе с луной. Раньше мне случалось сочинять предсмертное письмо. Но и это прошло. Мне в самом деле нечего сказать другим людям. Такого уж умного или душераздирающего. В наши дни нужно уходить молча. Этак приличнее. Вообще следует ограничиваться только самым необходимым запасом слов. Поэтому я уйду, не поделившись ни с кем своими глубокими наблюдениями, без воплей отчаяния; да ничего плохого со мной и не было. Ничего особенного не стряслось. Я уйду, поскольку убедился, что могу завтра здесь еще быть, но свободно могу и не быть.
Могу умереть я, а могут — те пятеро мужчин и две женщины, что горланят сейчас в буфете. Любой в этом доме может умереть и навсегда отсюда исчезнуть. Кто хочет, пусть живет, а кто хочет — умирает. Для остальных это не будет иметь никакого значения. Другим все равно, живет кто-то или нет, ибо все поступки, слова, идеи рассыпаются, никак не складываясь в осмысленное целое.
Я часто задаю себе вопрос: возникло бы у меня перед смертью какое-нибудь последнее желание, захотелось бы о чем-нибудь спросить? И неизменно отвечаю: нет, нет. Именно в этом, так мне иногда кажется, главное отличие нашего времени от прежнего. Те, что придут после, уже не смогут нас понять. Когда-то люди, покидая сей мир, писали прощальные письма, завещания и даже сочиняли для себя эпитафии. Наше поколение умирало поскромнее. Эта наука осталась с нами на всю жизнь.