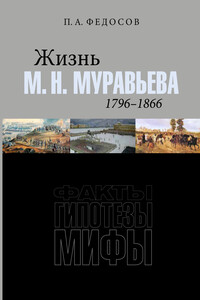Укрощение искусств | страница 30
Когда театр принимал гостей из-за границы – писателей, артистов, режиссеров из Франции, Англии, Германии и других стран, – то Шереметева всегда выпускали вперед, так как он был единственный из всех нас, свободно говоривший на всех главных языках мира. И глядя на него, когда он – спокойный и непринужденный, в превосходно сшитом черном костюме – рассказывал главному режиссеру парижской «Comedie Franсaise» на безукоризненном французском языке о Вахтангове и об истории его театра, трудно было поверить, что это был тот же самый Николаша, который вчера в потертых брюках и в засаленной черной косоворотке обсуждал в рабочей «курилке» со своими приятелями рабочими планы будущей поездки на охоту. Охоту, теннис и водку он любил сильно. Пил много, но не пьянел. Разве что когда уж очень много выпьет, становился более разговорчивым, чем обычно. Это бывали единственные моменты, когда можно было от него услышать кое-что из его прошлого, да и то не много. Его же собственную историю рассказал мне не он сам, а наши товарищи – актеры.
Николай Петрович был прямым потомком графов Шереметевых. Детство свое он провел в Шереметевском дворце в Петербурге. В гимназии он не учился, к нему на дом ходили лучшие учителя России. Знаменитый русский поэт Гумилев, расстрелянный большевиками в 1921 году, преподавал ему ассирийский язык. Его отец был большим любителем музыки и содержал даже свой собственный оркестр. Когда Николаше исполнилось семь лет, его стали учить играть на скрипке. Надо сказать, что в фамильном музее графов Шереметевых была великолепная коллекция старинных инструментов, один из которых – превосходная скрипка Амати – был подарен мальчику. Эта скрипка так и пережила годы революции и годы разрушения старой России, не расставаясь со своим хозяином, а теперь благополучно звучала в нашем оркестре. По счастливой случайности (которые так часты в бурные исторические годы), почти вся семья Шереметевых уцелела в годы революции, за исключением двух старших братьев Николая Петровича, погибших во время знаменитого Ледового похода белого генерала Корнилова на юге России.
Еще во время работы Вахтангова над «Турандот», в самом начале нэпа, поступил молодой Николаша скрипачом в театральный оркестр, а через некоторое время без памяти влюбился в лучшую актрису театра – исполнительницу роли самой принцессы Турандот и любимую ученицу Вахтангова – Цецилию Львовну Мансурову.
Цецилия Львовна была необыкновенно хороша собой. Было в ее прелестном лице, в изгибе тонких губ, в выражении прекрасных карих глаз какое-то непередаваемое, всепобеждающее очарование. К тому же она была очень талантлива. Но она была уже замужем, да и по новым демократическим понятиям была слишком большая дистанция между премьершей театра и скромным молодым скрипачом из оркестра. Однако настойчивое ухаживание красивого молодого человека, ухаживание самого тонкого порядка, чего в наш век уже не встретить, когда предмет поклонения окружается сплошной цепью самого изысканного внимания, а также (что греха таить!) обаяние громкого имени знаменитой графской фамилии – сделали свое дело. Мансурова стала отвечать взаимностью Николаше. В 1924 году всей семье Шереметевых удалось получить разрешение на выезд за границу – в Париж. Николай Петрович тоже получил заграничный паспорт и – в самый последний момент – разорвал его. Любовь его зашла уже слишком далеко. Семья Шереметевых уехала за границу, а Мансурова разошлась со своим первым мужем и вышла замуж за молодого графа Шереметева.