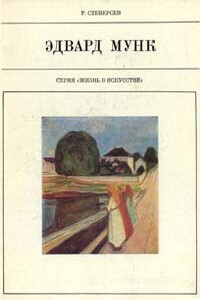Дзига Вертов | страница 31
А придя, долго хранил его в памяти. Некоторые из читателей припоминали Вертову первый манифест и десять, и двадцать, и двадцать пять лет спустя (а то и через десятилетия после его смерти).
Понемногу Вертов стал от него даже открещиваться.
В 1932 году он посчитает нужным напомнить, что это был не манифест, а всего лишь вариант манифеста, что он не стал точкой зрения киноков, назовет его «грехом молодости», правда, тут же подчеркнув, — на фронте почти ненационализированной, буржуазной игровой кинематографии. Позже Вертов не раз повторит: рассматривать все его последующее творчество только сквозь очки ранних манифестов неверно.
И он будет, конечно, нрав.
Но прав с одной оговоркой.
Вряд ли справедливо утверждение (даже если оно принадлежит самому Вертову), что манифест «МЫ» вообще не стал точкой зрения киноков. Он не стал их окончательной точкой зрения. В дальнейших выступлениях она расшифровывалась и постоянно углублялась, приобретала логическую ясность.
Но почти все основные линии, по которым в дальнейшем шлифовалась позиция киноков, сошлись в первом же манифесте.
Одни из них с самого начала провозвестнически устремлялись в будущее.
Другие требовали довольно-таки решительного очищения от шелухи поверхностных предсказаний.
Третьи, несмотря на воинственный словесный наряд, заранее были обречены на то, чтобы уйти рано или поздно в песок.
Манифест «МЫ», не став окончательной точкой зрения киноков, стал, несомненно, их отправной точкой зрения.
Поэтому отречься от него не составляло никакого труда. То, что было сказано вначале, во многом повторялось потом, только с большей убедительностью.
— Из ничего ничего нельзя сделать, — говорили древние.
Не будь каких-то ранних, еще не до конца сформулированных, недосказанных мыслей, не было бы последующих отточенных и глубоких выводов. Тем более что не только в окончательных, но и в отправных своих точках позиция Вертова была во многом принципиальной и верной. Но с годами ранние манифесты стали его действительно смущать.
Стремясь заставить слушать себя, Вертов выбрал вполне в духе того времени для первого программного заявления обостренную словесную форму, в ней основные его мысли находили предельно концентрированное выражение. Такая концентрация, отжимая главное, игнорировала частности. А они-то, и только они, могли проложить путь к ясному пониманию главного.
Вертов расшевелил читателей, вывел из спокойного состояния. Но слишком добиваясь одного, упускал другое: услышав его, читатели далеко не всегда получали возможность расслышать все до конца, во всех деталях.