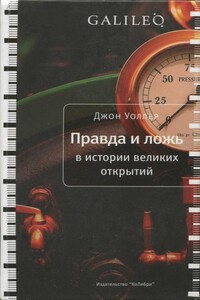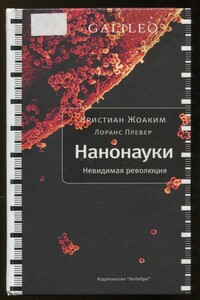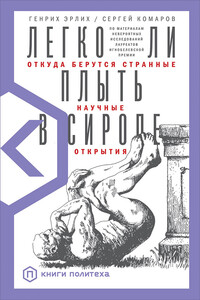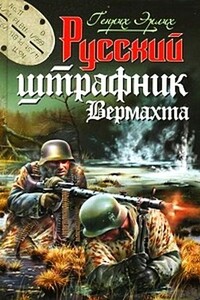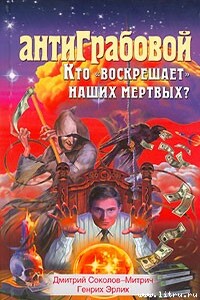Золото, пуля, спасительный яд. 250 лет нанотехнологий | страница 54
Противостояли Пастеру великий немецкий химик-органик Юстус Либих (1803–1873) и уже встречавшийся нам на страницах книги Марселен Бертло. Последний сомневался в существовании молекул и отрицал атомы, но при этом непоколебимо верил во всемогущество химии и полагал, что в основе всех процессов, протекающих в живом организме, лежат химические реакции. В его системе научных ценностей не было места “жизненной силе”, хотя сам он, по свидетельству современников, был наделен этой самой силой в преизбытке. Вот Бертло и ввязался в яростный многолетний спор со своим коллегой по Французской академии.
Вышло по русской присказке: на колу мочало, начинай сначала. Бертло разрушил клетки дрожжей, получил бесклеточный экстракт, высадил из него спиртом некую субстанцию и показал, что она вызывает точно такое же брожение, как и дрожжи. Но авторитет Пастера был настолько велик, что различные исследователи были вынуждены раз за разом повторять этот эксперимент в надежде, что количество доказательств перейдет в качество убеждения. Спор был разрешен только после смерти Пастера. По всеобщему признанию точку в нем поставила статья немецкого исследователя Эдуарда Бухнера[18] “Спиртовое брожение без дрожжевых клеток”, опубликованная в 1897 году. В 1907 году благодарное научное сообщество увенчало Бухнера Нобелевской премией по химии ни много ни мало “за открытие внеклеточной ферментации”. С момента открытия Кирхгофа прошло почти сто лет.
Нельзя сказать, что все эти годы ученые были заняты лишь поисками аргументов в затянувшемся историческом споре. Именно тогда был установлен факт, имеющий принципиальное значение, – специфичность действия ферментов, их способность взаимодействовать со строго определенными веществами (субстратами) и катализировать одну конкретную реакцию. Кроме того, было доказано, что в ходе реакции образуется промежуточный комплекс фермента с субстратом, в этом отношении ферментативный катализ обогнал другие ветви катализа, на первый взгляд более простые.Все эти вопросы чрезвычайно занимали Эмиля Фишера. Для объяснения высокой специфичности ферментов он сформулировал в середине 1890-х годов свое знаменитое положение о том, что субстрат подходит к ферменту как ключ к замку, которое выдержало испытание временем и дожило до наших дней. Проблема заключалась в том, что Фишер не мог сказать ничего определенного об устройстве “замка”, ведь к изучению строения белков он приступил лишь десятилетие спустя.Собственно, давняя теория Траубе о том, что ферменты – вещества белковой природы, продолжала пребывать в статусе недоказанной гипотезы. Да, ферменты проявляли многие свойства белков, но из этого отнюдь не следовало, что именно белки обладают каталитическими свойствами ферментов. Многие специалисты, включая такого авторитетного ученого, как лауреат Нобелевской премии Рихард Вильштеттер, считали, что белки выполняют лишь функцию носителя для “истинного энзима” – небольшой каталитически активной молекулы. На фоне белка такая молекула выглядела незначительной примесью, что объясняло, по мнению этих специалистов, трудности ее обнаружения и идентификации.