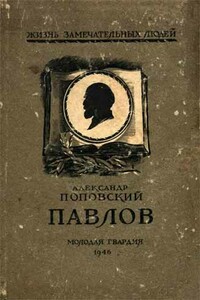Испытание | страница 39
Сабиля вздохнула, и голова ее склонилась. Ни муж и ни брат на нее не взглянули, словно забыли о ней. Глубокие глаза ее под крутыми бровями — два озера под суровым Хан-Тенгри — покрылись тяжелым туманом. И как не вздыхать: кто знает, чем все это кончится? Джоомарт не смолчит, таких речей он никому не прощает.
Агроном не унимался. Он выпятил грудь и, самодовольно озираясь, выкрикивал:
— Я с народом дружу, и он меня любит. За двести километров приезжают сородичи. Заявится старик со старухой, ни его, ни ее я никогда не встречал. «Я слышал, — говорит он, — что ты людей обучаешь, как с землей обходиться, и приехал тебя повидать». Приехал — спасибо. Дашь ему подарок, он вдруг вспоминает: «Наш сосед, Керим-бай, тоже просил передать тебе привет. Не пошлешь ли ты что-нибудь соседу?» Подаришь и тому метра три ситца. Ха-ха-ха! Им приятно, и тебе хорошо.
Сабиля больше не может молчать, она подходит к Мукаю и укоризненно шепчет:
— Ты так выпятил грудь, так разводишь руками, что пуговицы отскакивают от твоей верхней рубахи. Вот еще одна висит на волоске. Говори тише и спокойней.
Он не слушает ее, размахивает руками, и пуговица беззвучно падает на кошму. Джоомарт сидит неподвижно, глаз не сводит с Мукая. Темиркул молчит, его не поймешь: и острые брови, и морщинистый лоб, и угрюмая складка на мятых щеках всегда у него одинаковы.
— Курманы без меня шагу не ступят, — распинается хмельной Мукай. — Что, удивил? Ха-ха-ха! Я с родом не рвал и не стану рвать. Нельзя по свету плыть без опоры! Ты колхоз собирал, а Курманы меня осаждали: спрашивали, идти ли им в колхоз? Я с ответом не спешил, все равно без меня не посмеют. Вот как. Понял? Не понял? Понимай, как хочешь.
Теперь его беспокоит род Джетыген, у них родственное дело с Курманами, просят помощи, шлют письма и молят. Как не помочь. Кто любит родину, тот любит и народ.
Вот когда Темиркул взглянул на Джоомарта. Подняла глаза и Сабиля. Они ждут, что он скажет.
— Как же эти письма попадают к тебе? Кто их приносит?
— Кто приносит? Мало ли кто.
Он, смущенный, не находит слов для ответа. То ли голос Джоомарта — резкий и строгий — его вдруг смутил, то ли хмель испарился и ему стало стыдно своей болтовни. Он куражится еще, но уже не с тем пылом.
— Это дело мое. Мне приносит их свой человек.
— Ты не любишь свою родину, врешь!
Этого Сабиля всего больше боялась. Она глядит умоляюще на брата, он должен уступить ей, она просит его.
— Подумал ли ты над тем, что сказал? По-твоему, не тот живет жизнью народа, кто кровь за него проливал, а кто ест бешбармак без вилок и ложек? Сидеть на джайлау, жрать и пить там чужое — значит любить свой народ? И чем ты похвастал? Своей властью над родом? Мы бились неделю, я и застава, звали Курманов в колхоз, убеждали, просили, а ты собой подменил заставу, и партию, и советскую власть. Не за это ли сказать тебе спасибо?