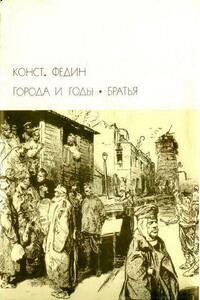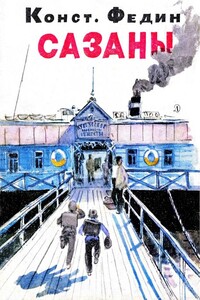Я был актером | страница 19
— Когда пройдет ваша молодость, когда вы убедитесь, что уже все достигнуто в вашей неповторимой жизни, вы будете искать друга. И, знаете, его будет не легко найти. Человек, доживающий свои дни, часто обременителен и всегда скучен. Даже если ему оказывают почет, то это почет его прошлому. Лишь сами вы будете любить себя до конца своих дней. И лишь один вечный друг останется к вам неизменен: это — книга.
Он вытянул из-под мышки и подержал передо мною, точно взвешивая, перекрещенную шнурком пачку книг.
— Эгоизм — это священное чувство — уважается только книгой: она дает человеку право думать о ней свободно, по его произволу. Я ведь вам говорил, что моя настольная книга — «Единственный» Штирнера. У меня сегодня праздник: я достал издание «Единственного», напечатанное очень крупным шрифтом, для слепых. Я могу его читать сам, с увеличительным стеклом.
Я взглянул на Брейга. Глаза его с помутневшими темными зрачками, слезившиеся и сощуренные, показались мне раскосыми. Но я не почувствовал к нему сострадания. Я считал, что он должен жалеть меня, и мне захотелось оборвать его напыщенные речи.
— Сегодня вы открываете заглавную страницу вашей молодой жизни, продолжал Брейг.
— Никакой страницы я не открываю, — перебил я его. — Разве вы не слышите, что со мной?
— Хрипота? Вы поете вашу первую партию? Так чего же вы бегаете по городу? Ах, молодость! Ступайте домой, ложитесь в постель. Два часа хорошего сна и — вот вам моя рука старого венского певца, который, наверно, скоро пропоет свою последнюю партию, вот эта рука, — перед выходом на сцену к вам вернется голос, и вы прекрасно споете спектакль. Ваша болезнь называется рамповой лихорадкой. Огни сцены, синие рампы, таящие за собой загадку зрителя, — у меня до сих пор замирает душа, когда я жду своего выхода. А впрочем, может быть, мне уже пора потерять в себя веру? Идите спать. Спать!
Я послушался и с удивившим меня внезапным легкомыслием повернул домой. Все мои страхи сменились одним, что я не засну; но едва я улегся, на меня надвинулось, точно чугунный каток, забытье, и я очнулся всего за четверть часа до начала спектакля. Я был так испуган, что даже не попробовал голоса, и со всех ног полетел в театр. Мой выход был в начале первого акта, а мне предстояло замысловатое переодеванье и кропотливый грим.
Гардеробье, насупленный и отечески ворчливый, не вынимая из зубов вечных булавок, похожих на нижний ярус седой щетины усов, наскоро вдел меня в огромный тряпичный живот, и я стал похож на паука. Пока завязывались на спине шнурки жилета, на коленях — банты шелковых панталон, пока застегивались золоченые пряжки туфель, надевался и кое-где подкалывался шитый блестками и стеклярусом кафтан, я отдышался, откашлялся и в страхе попробовал голос.