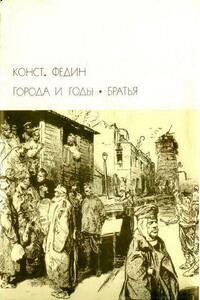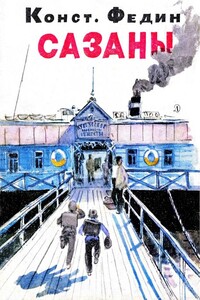Я был актером | страница 15
Я был подавлен рассказом Лисси, а ей доставляло удовольствие, что я страдаю.
— Ну, если Шер сидит, — сказал я вдруг с отчаянием, — то я завидую ему, как хочешь!
— Ты рехнулся!
— Нет, я не рехнулся. Мне тоже не миновать лагеря, потому что у меня тоже не угас патриотизм. Я слышал, в день рождения кайзера вся труппа должна петь перед спектаклем немецкий гимн. Верно? Так я заявлю директору, что не собираюсь участвовать в вашей манифестации.
— Осел, — проговорила Лисси мрачно. — Забываешь, где находишься. Раз ты служишь — должен служить. Нас ведь не спрашивают — хотим мы петь или нет. Когда я пела у вас, мне тоже приходилось всякое. Я ведь исколесила всю вашу святую матушку-Россию: была в Риге, в Варшаве, в Лодзи, в Вильне, в Ревеле где я не была! О, знаешь: извош-тчик! Чудесно! И вот в рижском театре в тезоименитство вашего Николая мы должны были петь русский гимн. У нас в труппе были сплошь немцы, никто не знал ни звука по-русски. Тогда директор расставил нас так: в первый ряд — русских, наряженных в камзолы церковных певчих, а всех актеров — позади. На спины певчим прикололи ноты со словами гимна, латинскими буквами. Мы хохотали до икоты. Но пришло время — по всем правилам спели ваше «Поше сар'я краны».
Жуткие звуки неизвестного языка развеселили нас.
— Так или иначе, — сказал я, — лагерь дожидается меня: если я соглашусь пропеть ваш гимн, меня посадят за то, что я с тобой целовался.
— О, со мной можно, я — певичка.
Она приласкала меня с материнским готовным участием, опять впрыгнув на стол и не забывая штопать чулок. Я ушел.
В гардеробной, где подбирались костюмы к очередной оперетке, мирно примерял котурны Шер. Я взглянул на него в ужасе. Он выпрямился, скрипя заржавленными ходулями, и со своей зыбкой высоты, медленно подымая на меня длань, замогильно дохнул:
— Смертный! Перед тобою потревоженная тень художника.
— Слезьте, к черту!
Я расспросил, как было дело. Лисси ни капельки не соврала: он должен был садиться на неделю в лагерь.
С трудом опустившись на кучу разнокалиберных стоптанных башмаков, Шер, усмехаясь, пожаловался мне на судьбу. Внезапно он приуныл.
— Что лагерь! — сказал он. — Помните Ярошенко? «Всюду жизнь»… Обидно другое. Я ни при чем в этой истории. Вильму не могли видеть со мной: ни разу она не исполнила ни одной моей просьбы.
Он сидел повесив нос, стаскивая с маленьких ног котурны.
— Она ходит с другим. Я готов в любой лагерь, лишь бы сбылось то, в чем меня обвиняют. Странные женщины: этот ее ухажер, которого приняли за меня, невероятно смешон и, по-моему, просто несимпатичный…