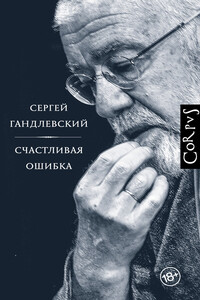Эссе, статьи, рецензии | страница 95
“Хрусталев, машину!”, напротив, могут обвинить и уже обвиняют в очернительстве. Настроение в стране сменилось, как по команде “кругом”, но Герман снова идет не в ногу. В последние годы общество косит эпидемия ностальгии: болезнь поразила представителей всех сословий – будь то люмпен, скучающий по барачному братству, или отец семейства, обижающийся “за отечество”, или высоколобый, смакующий “большой стиль”. И Герман показывает в течение двух часов двадцати минут, какой ценой оплачивается египетское величие – территориальное, социальное, эстетическое.
Этот фильм гораздо мрачнее “Ивана Лапшина”. За плечами персонажей “Хрусталева” – четверть века террора. Почти все они – от столичных сановников, жильцов высотных зданий, до обитателей медвежьих углов и лагерей заключения – стоят друг друга. Противоестественный отбор завершился – и выжил тот, кто выжил. Энтузиаст Лапшин и его порывистые друзья ко времени действия последнего фильма Германа давно стали лагерной пылью или приспособились до неузнаваемости. Корней Чуковский записал в дневнике, что к середине 20-х годов у соотечественников заметно оскудела мимика и жестикуляция – живость поведения, иными словами. Надо думать, за последующие десятилетия физиономии граждан только окаменевали. И если в “Лапшине” актеры могли наиграться вволю, то в “Хрусталеве” уже не до баловства: режиссеру требуется в первую очередь фактура. Экран населен не действующими лицами, а испуганными куклами, пока не знающими, что главный кукловод напоследок обделался и вот-вот испустит дух. Протагонисты-родственники, страх и насилие, хозяйничают в фильме.
Ближе к началу картины мальчик, авторское alter ego , плюет в зеркало по какому-то своему мальчиковому поводу. Но когда исподволь фильм разрастается до своих неимоверных размеров, становится ясным, что эта плевая вроде бы частность адресована и прочим зеркалам страны со всем их содержимым. А в узкоцеховом смысле Герман целит в патриотическое зеркало Андрея Тарковского. Герман не раз вызывает в “Хрусталеве” знаменитую тень, вновь и вновь расписываясь в своем идейно-художественном несогласии. Оба режиссера музыкальны – но у Тарковского великая музыка призвана задать собственный масштаб происходящему – скажем, истории челюскинцев, а Герман способен перевести в трагедийный регистр и заурядную мелодию. И зритель впадает в катарсис под звуки видавшего виды марша ничуть не хуже, чем от гула органной мессы или реквиема.