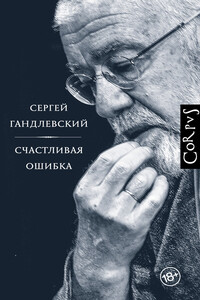Эссе, статьи, рецензии | страница 91
– Что же вы не сказали, что придете с гостем? – обратился он к моему спутнику. – А то бы я пристегнул протез, предупредил мадам.
N представил меня, выложил из портфеля на тумбочку батон хлеба, заверил, что обещанные лекарства будут со дня на день. Потом с натугой, волоком вытащил беседу на литературную почву, хотя Арсений Александрович не проявил большой заинтересованности. Я прочел два-три, боюсь, что четыре-пять стихотворений. Тарковский помолчал с минуту, вяло одобрил, сказал, что надо сильнее чувствовать. Перевел разговор на Вениамина Блаженных, припомнил несколько строф из него, и впрямь хороших. И дальше заговорил о Махтумкули, вернее – об удивительной особенности его поэтического зрения, роднящей туркменского классика со стрекозой. Минут двадцать Тарковский говорил о фасеточном зрении Махтумкули. Вот и все.
На пути домой я едва сдерживал досаду на топорную благотворительность приятеля. Но досаднее всего, конечно, было равнодушие мэтра к моим стихам. “Надо сильнее чувствовать”, – вспоминал я с обидой, – кто бы говорил!
Неделей позже я судачил по телефону со знакомым поэтом, “скептиком и матерьялистом”, вроде лермонтовского доктора Вернера. Мой собеседник сказал между делом, что только-только вернулся из Переделкина от Арсения Тарковского. “Ну-ну?” – оживился я.
– Арсений Александрович – просто прелесть, – сказал знакомый, – он рассказывал про фасеточное зрение Махтумкули.
Я поделился недавним личным опытом. Мы развеселились, поболтали, простились. Я положил трубку и поежился. Все случившееся предстало мне притчей: о старости, о позднем признании, о молодости – чужой и довольно безжалостной в сознании своего права на внимание.
1997
Двадцать лет спустя
Двадцать лет назад умер Александр Галич. Он был сильной привязанностью моей молодости, моей и Сопровского. Мы могли без устали перебрасываться его строчками: “а другие, значит, вроде Володи”, “по капле – оно на Капри”, “но начальник умным не может быть, потому что – не может быть” и т. д. Тогда у разных кругов были свои литературные кумиры и цитаты-пароли. Комсомольские функционеры-балагуры шпарили наизусть Ильфа и Петрова, неофиты знали назубок евангельские главы “Мастера и Маргариты”, а иные снобы угадывали взаимное духовное родство, приводя на память из “Лолиты”.
Мы же придумали теорию, что творчество Галича – то самое искомое звено между “кроманьонским человеком” дореволюционной России и советским “неандертальцем”: традиционные ценности и стих, но животрепещущее содержание. Без интеллигентской, высосанной от бессилия из пальца “внутренней свободы” с ее несчастным “чистым искусством”, без интеллигентского же фиглярства – от того же бессилия.