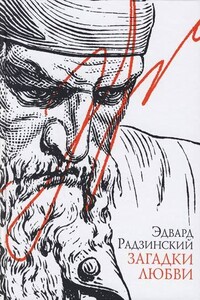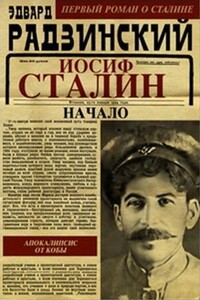Моцарт и Казанова | страница 62
Депутаты обожали говорить.
Я часто встречался с депутатом Национального собрания доктором Гийотеном. Только впоследствии я оценил, каким великим человеком он был. Ибо он, Гийотен, предчувствовал будущее. Не будь его, мы, Исполнители, попросту задохнулись бы в потоке жертв, которые поставит нам Революция. Куда мне, единственному парижскому палачу, было справиться с той бессчетной чередой осужденных, которую когда-то предсказал несчастный Казот? Здесь и армия палачей не справилась бы!
Гийотен был совершенно свободен от предрассудков в отношении моей профессии. Мы часто собирались у меня дома и музицировали. Он превосходно играл на клавесине, я — совсем недурно на скрипке.
И вот однажды играли мы арию из «Тарара» и размышляли о едином и равном для всех наказании — эта проблема очень занимала Гийотена.
— Виселица? — спросил он.
— Нет, — ответил я, — трупы повешенных сильно обезображиваются. Это портит нравы — ведь преступники подолгу висят на потеху толпе.
И мы опять играли. И размышляли.
— Нет, что ни говорите, доктор, — высказал я свое мнение, — но отсечение головы — самый приличный способ казни. Недаром его удостаивались одни привилегированные сословия.
— Правильно, — сказал он. — Но благодаря равенству перед законом, теперь этим способом могут пользоваться все!
Я прервал его восторги:
— Вы представляете, сколько теперь может быть таких казней? — (О, если бы мы могли тогда представить!) — И какая должна быть верная рука у палача и твердость духа у жертвы? А если осужденных много, то казнь может обратиться в страшные муки вместо облегчения…
Я привел много доводов. Мы опять задумались и продолжили нежную арию. И тут Гийотен высказал то, о чем я давно думал:
— Надо найти механизм, который действовал бы вернее руки человека! Нужна машина!
— Браво! — воскликнул я.
И Гийотен стал еще чаще заходить ко мне — обсуждать, какая это должна быть машина. К счастью, был еще один музыкант, который порой присоединялся к нам. Это был немец — некто Шмидт.
В тот вечер мы составили великолепное трио, но наше музицирование весьма часто прерывалось рассуждениями о будущем аппарате.
— Там должна быть доска, и обязательно горизонтальная, чтобы осужденный лежал неподвижно… это очень важно, — говорил я.
— Именно, именно, — восторженно подхватывал Гийотен, играя нежнейшую арию из «Орфея и Эвридики».
Шмидт внимательно слушал наш разговор. Надо сказать, что он был механиком, занимавшимся изготовлением фортепьяно. Когда Гийотен ушел, Шмидт молча подошел к столу и набросал рисунок карандашом.