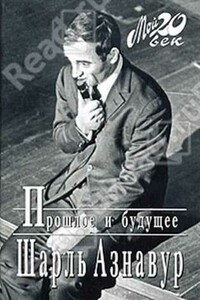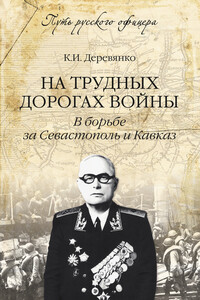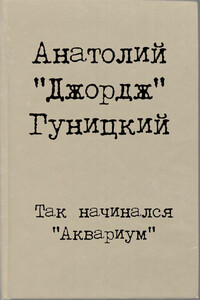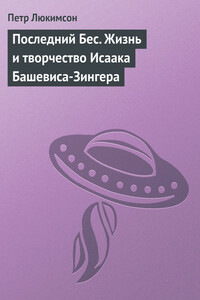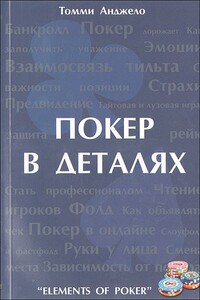Музыка жизни | страница 51
Общаясь с таким высококультурным и эрудированным человеком, как Надежда Матвеевна, я постепенно училась вникать в замысел композитора, не случайно избравшего для своего творения тот или иной поэтический текст. Знание истории создания выбранного нами романса, судьбы его автора, судеб героев, упоминаемых в нем, помогало мне осмысленно расставлять эмоциональные ударения. Это всегда происходит в зависимости от индивидуального восприятия, особенностей образного мышления певца, и потому каждый исполнитель один и тот же романс, арию, песню поет по-своему, окрашивая произведение своими чувствами.
Нередко приходится слышать, как молодые певцы, не утруждая себя глубинным осмыслением содержания произведения (или просто не понимая его), идут по пути внешнего подражания какому-нибудь, пусть и очень хорошему исполнителю — они как бы примеряют чужую одежду на себя. Результат бывает печальный — появляются бездушные, не пропущенные через сердце исполнительские трафареты, хотя певцы и используют уже апробированные интонации, эмоциональные акценты.
Еще хуже, когда певцы для исполнения выбирают произведения ради их красоты, ради нескольких эффектных нот — в ущерб содержанию. А ведь романсы, написанные на настоящие стихи, — это полноценные драматические произведения, пусть и небольшие. Их мало спеть — их надо сыграть. К примеру, в удивительном по эмоциональной насыщенности романсе Чайковского «День ли царит» исполнители порой «уходят» в детали поэтического текста, забывая за этим, что романс этот — восторженный гимн всеохватывающей любви: «Все, все, все о тебе!» И петь его надо на едином эмоциональном порыве.
Надежда Матвеевна с самого начала подводила меня к правильной трактовке произведений, учила чувствовать форму, разъясняла подтекст, подсказывала, с помощью каких приемов можно добиться высокого художественного результата. В нашем кружке все оценивалось по самым высоким меркам настоящего искусства. Мой репертуар быстро увеличивался, Надежда Матвеевна была мною довольна, но при этом скупа на похвалы. Поэтому для меня было большой радостью узнать, что она сказала обо мне: «С Ирой можно говорить на одном языке, языке Шаляпина и Станиславского!»
Через несколько месяцев в Красном зале института состоялся первый концерт вокального кружка — своего рода «отчет о проделанной работе». Надо сказать, что такие концерты устраивали и другие кружки, в частности, драматический. Зрителей на таких наших вечерах всегда было много: кроме любителей и знатоков хорошей музыки, которая в институте пользовалась большим уважением, среди профессоров и студентов имелось немало заядлых театралов, настоящих ценителей литературы, особенно поэзии.