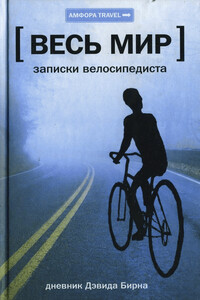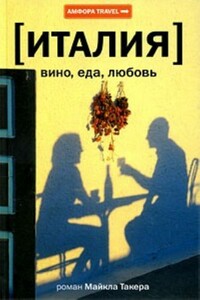Турция. Записки русского путешественника | страница 15
В Никее еще вздрагивает сердце при виде такой же родной Софии, где на Первом соборе начинал складываться Символ веры, а на последнем возвращалась икона. И тотчас вспоминаешь здесь родные Софии — полоцкую, киевскую, новгородскую!
Вдруг с удивлением осознаешь — вот ведь какое православие мы принимали! Эту строгую мерность, эту возвышенную ясность и чистоту, царственную гармонию, которые так слышны еще в древних храмах Новгорода и Владимира. А эту праматерь наших соборов обегает хоровод магазинчиков, перекрикивающихся вывесками: купи, купи, купи! А храм уже на три-четыре метра ниже городка, и крик вывесок летит прямо в храмовые окна, в покойную тишину, хранящую память о днях, когда император Константин при открытии Первого собора читал здесь царственные Вергилиевы строфы, предуказывающие рождение Богомладенца.
Здесь, в Никее, и Никола был другим. Два первых месяца собора 325 года оказались всех трудней, но зато и утешительней для Мирликийского епископа. «Земледелец, истреблявший плевелы неверия, архитектон, воздвигавший церкви Христу, зодчий духа, воин, препоясавшийся истиной и облекшийся в броню праведника» (так звал Святителя Андрей Критский), он успел узнать за эти месяцы и заточение, и славу.
Простое сердце, защищавшее веру верой, а не красотой умозрения, он, вероятно, страдал, слушая, как борются с еретическим умником Арием — схоластом, поэтом, ритором — другие участники собора, стараясь одолеть его ученость еще большим разумением. Он лучше других видел, что тонкости в делах веры опасны, потому что слово — инструмент хрупкий и податливый и, начав за здравие, как раз кончишь за упокой. И смутившая отцов собора резкость, когда он ударил Ария по щеке, на самом деле и не дерзостью была, а опытом приведения в чувство и самого Ария, и остальных епископов, готовых утонуть в словах. Таким простым способом сказанному возвращалась первоначальная ясность смысла. И короткое заточение Святителя за этот резкий жест, и триумфальное возвращение на собор служили шагами трезвения и общего духовного укрепления, возвращения здоровой системы координат. Ведь и Спиридон Тримифунтский, как говорит одна из легенд, на этом соборе, вступая в спор с изощренными перипатетиками, поддерживающими Ария, тоже пользовался для доказательства двойной природы Христа не неустойчивым словом, а сжав в крепкой руке кирпич, из которого в одну сторону брызнула вода, а с другой вспыхнул огонь.
…Площадь вокруг Софии декорирована цветами и фонтанами, и старые мраморы, где светит крылами серафим и взывает к памяти греческое, тотчас читаемое «Христос, Христос», уже служат только украшением, садовой «скульптурой». Дети катаются на велосипедах вокруг и ждут нечаянного туриста — не перепадет ли чего. А в храме никого, кроме смотрителя, и нам опять можно послужить молебен и помянуть и Николу, и других отцов Вселенских соборов, боровшихся здесь за каждое слово и букву с сознанием, что «Слово — плоть бысть» и малейшее расширение толкования торит широкий путь погибели. Вот если бы, думаешь, жизнь не прерывалась, если бы единственная фреска «Деисис» все была на должной высоте, а не уходила в «культурный слой» (чтобы рассмотреть ее, надо становиться на колени), если бы престол все оставался там же и не надо было искать место на земле, куда бы положить крест, как могущественно тверд и покоен пребывал бы человек.